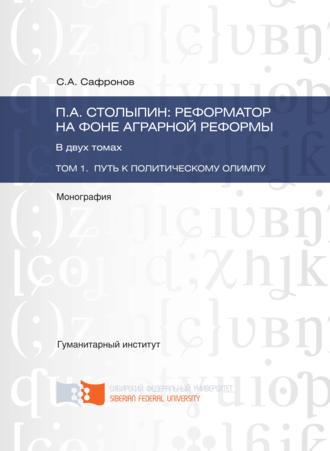
С. А. Сафронов
П.А. Столыпин: реформатор на фоне аграрной реформы. Том 1. Путь к политическому олимпу
Книга С.Ю. Рыбаса, изданная в серии «Жизнь замечательных людей», представляет собой, строго говоря, не историческое исследование, а документально-исторический роман с особенностями этого жанра и достаточно яркой эмоциональностью (достаточно отметить прогноз автора, утверждающего, что, «если бы Столыпин довел свое дело до конца, не было бы ни Сталина, ни Ленина. Возможно, не было бы ни Первой, ни Второй мировой войны»52.
В 2003 г. из печати вышел двухтомный сборник документов и материалов под редакцией П.А. Пожигайло, в котором собрана основная масса столыпинских законов и законопроектов53. В данном сборнике собраны документы, дающие развернутое представление о замыслах П.А. Столыпина в области землеустройства, насаждения крестьянской частной собственности, кооперативного строительства, развития кредитно-финансовой системы, ссудной помощи переселенцам, церковно-школьного строительства. Из обзора этих документов видно, что не все замыслы реформатора смогли осуществиться на деле. Например, так и не была реализована идея создания Государственного сельскохозяйственного банка, который должен был помогать в деле распространения частной собственности на землю и в повышении уровня сельскохозяйственного производства. Вместе с тем в данном сборнике показывается масштаб столыпинской реформы, грандиозность замыслов последнего реформатора царской России. В этом же году вышел сборник документов под общей редакцией П.А. Пожигайло, в котором рассказывается о гибели П.А. Столыпина54.
В 2008 г. П.А. Пожигайло опубликовал еще один сборник документов о П.А. Столыпине55. В публикацию включен комплекс ранее неизвестных мемуаров современников П.А. Столыпина, позволяющих в своей совокупности значительно расширить представления о его облике, личных и деловых качествах, роли в подготовке и реализации системных преобразований России начала ХХ в. В книгу вошло более 30 воспоминаний родственников, сослуживцев, видных общественных и политических деятелей. В Приложение включено более 20 неопубликованных писем П.А. Столыпина.
В 2011 г. П.А. Пожигайло выпустил из печати монографию о П.А. Столыпине56. В данном исследовании предпринята попытка комплексного анализа столыпинской концепции разрешения системных кризисов, программы его масштабных преобразований, технологий ее реализации, итогов и перспектив реформ для исторических судеб России. Исследование позволяет понять исходный замысел, содержание и механизмы перемен, выводивших Россию в число ведущих мировых держав, обеспечивавших укрепление ее целостности и единства, формирование среднего класса, гражданского общества и правового государства, повышение уровня образования и улучшение материального положения народа.
Американский историк Д. Мейси, размышляя о судьбе аграрной реформы, акцентирует внимание на роли прямой и обратной связи между правительством и крестьянством57. В связи с этим он обращает внимание на два процесса: децентрализацию власти в рамках учреждений, проводивших реформу (проведение совещаний на уровне регионов и губерний, учреждение местных органов Крестьянского поземельного банка); начало перехода от традиционных и патерналистских форм вмешательства администрации к наблюдательной роли. В современной литературе продолжается дискуссия об эффективности аграрной реформы. Д. Мейси настаивает на том, что программа П.А. Столыпина не только не потерпела поражения, но и нашла положительный отклик среди широких масс крестьянства. Данный вывод автор основывает на анализе обширного статистического материала.
А.П. Бородин написал ряд крупных работ об истории России начала ХХ в.58 Первое иследование данного автора повествует о работе реформированного Государственного Совета периода столыпинских реформ. Замысел второй книги А.П. Бородина заключается в том, чтобы взглянуть на П.А. Столыпина глазами современников, что позволяет преодолеть искажения в восприятии облика государственного деятеля несколькими поколениями наших соотечественников. Автор по-новому расставляет приоритеты в оценке карьеры П.А. Столыпина, обращая внимание на некоторую категоричность вывода о близком уходе его с поста главы правительства весной 1911 г., так как «вопрос о направлении правительственного курса окончательно решен не был59. Не столь однозначными, по мнению А.П. Бородина, являются и оценки национальной политики (приведение местного законодательства в соответствие с общеимперскими), отношения к дворянскому землевладению (стремление добиться добровольной продажи частью помещиков своих имений).
Книга П.С. Кабытова отличается тем, что здесь впервые рассмотрены особенности личности П.А. Столыпина с учетом факторов повседневной жизни, взаимоотношений с семьей и сослуживцами. На основе мобилизованного материала региональных архивов им была предпринята весьма удачная попытка изучения стиля деятельности саратовского губернатора, а также практики хозяйствования60.
Монография американского профессора Я. Коцониса посвящена исследованию взаимодействия между представлениями о крестьянстве и практикой реформ в аграрной сфере в 1861–1914 гг. В отдельной главе рассмотрен сюжет о дискуссиях о собственности в период реформ П.А. Столыпина. Автором отмечены особенности дискуссии о политическом и социальном значении понятия «собственность». Главным аргументом представителей элиты и правительственных кругов, демонстрировавших свою сословную ментальность, являлось стойкое убеждение в том, что «крестьяне недостаточно зрелы для того, чтобы им можно было доверить их собственную землю и вообще средства к существованию», поскольку они «нуждаются в неусыпном надзоре государственных учреждений и некрестьянской по своему составу администрации»61. Анализируя содержание кредитной политики, Я. Коцонис приходит к выводу о том, что ссуды, выданные под залог надельных земель (около 11 млн руб.), в основном были предназначены для крестьян-переселенцев, что исключало возможность эффективной поддержки хозяйств в Европейской России. В представлении П.А. Столыпина кооперативы, наряду с обновленным землепользованием, являлись прообразом новой интегрированной системы, которая должна быть бессословной по своей природе.
Крупная научная работа В.А. Демина также повествует о реформированном Государственном Совете. Подробно рассматриваются история его создания, порядок и практика формирования его выборной и назначаемой частей, законодательные, финансовые и контрольные полномочия Совета. Выявляется его место в системе органов власти. Анализируются состав и идеология политических групп верхней палаты, а также ее внутренняя структура и порядок работы62.
Историк Д. Струков в 2012 г. опубликовал биографию П.А. Столыпина63. Автор считает, что кризис того времени оказался настолько всесторонним и глубоким, что никакие титанические усилия одного человека были не в состоянии преодолеть государственный развал. Николай II мучительно искал себе деятельного помощника. Но никто из тогдашнего царского окружения не мог ответить на тот шквал страшных вопросов, который обрушила на власть смута 1905 г. Провозвестником спасения России стал П.А. Столыпин. Д. Струков считает, что Николай II и П.А. Столыпин стали знаковыми фигурами этих исторических процессов, органично соединившими в себе высокую нравственность и государственный талант.
К.И. Могилевский в соавторстве с К.А. Соловьевым выпустил ряд монографий, посвященных деятельности П.А. Столыпина64. В книгах представлен жизненный путь и государственная деятельность П.А. Столыпина. На основе широкого круга источников воссоздается программа реформ П.А. Столыпина, имевшая своей целью системную модернизацию России в начале XX столетия. Авторами подробно рассматриваются пути ее реализации и результаты правительственной политики в 1906– 1911 гг. К.А. Соловьеву также принадлежит работа, рассказывающая о деятельности Государственной Думы и Государственного Совета65. Как показывает автор, правительство сталкивалось со многими трудностями на всех этапах обсуждения законопроектов. Причем на любой стадии существовали особые «правила игры», к которым нужно было приноравливаться правительству. Вопреки представлениям, популярным в историографии, и Дума, и Государственный Совет далеко не во всем соглашались с министрами, задерживали, а иногда и вовсе блокировали прохождение правительственных инициатив, существенно влияли на распределение средств государственного бюджета. Все осложнялось тем, что и верхняя, и нижняя «палаты», как и Совет министров, в силу несовершенства юридических норм, особенностей политической культуры того времени, разнородности состава этих учреждений не обладали определенной политической волей. Представители этих учреждений нередко вели самостоятельную «игру», вступая в альянс друг с другом. Возникали сложные сетевые, горизонтальные связи, основанные на неформальных контактах высшей бюрократии и депутатского корпуса. В силу этого появлялись альтернативные алгоритмы принятия решений, устанавливались отношения между администрацией и группами интересов, стоявшими за депутатами. В итоге расширялась сфера компетенции представительных учреждений, а народные избранники постепенно интегрировались в политическую систему, которая, собственно, и формировалась усилиями депутатов и министров.
Цикл статей В.В. Шелохаева фокусирует внимание на базовых ценностях столыпинской программы модернизации, взаимодействии законодательной и исполнительной ветвей власти. Выводы В.В. Шелохаева основаны на системном изучении всего комплекса документов, связанных с именем реформатора. Речь идет о том, что П.А. Столыпин осуществлял консервативно-либеральный тип модернизации, который, по мнению автора, представлял собой оптимальный вариант преобразований – нечто среднее между правоконсервативной моделью переустройства страны и леворадикальными вариантами, способными стимулировать национальную катастрофу66. Автор весьма объективно проанализировал социально-политическую среду реформирования, трудности, просчеты в реализации внутренней политики. Речь шла об асинхронности в ходе разработки законопроектов, финансировании мероприятий в социальной сфере по остаточному принципу, недостаточном учете остроты противоречий между политическими элитами, специфике взаимоотношений с фракциями политических партий, представленных в Государственной думе. Наконец, П.А. Столыпин как политик не в должной мере учитывал необходимость вовлечения в процесс преобразований широких общественных кругов, что, в частности, требовало особой роли печати.
Британский историк-аграрник Т. Шанин исходит из того, что теоретическое и концептуальное содержание проектов П.А. Столыпина не было воплощено в «связную теорию», поскольку «теоретические умы России были заняты другими проблемами»67. Впрочем, вынося данный вердикт, автор признает логичность программы П.А. Столыпина по выходу страны из системного кризиса, что еще не гарантирует достижения политических результатов. Т. Шанин делает вывод о том, что успех преобразований «нельзя исключать по чисто теоретическим соображениям», однако роковое значение, по его мнению, для «команды П.А. Столыпина» имели кадровый «голод», недоверие к правительству либеральной интеллигенции и жесткая позиция консерваторов-монархистов.
Категоричность суждений Т. Шанина, называющего аграрную реформу «революцией сверху», не пользовавшейся поддержкой ни одного крупного общественного класса, ни одной партией, не разделяется А.Н. Медушевским68. Его вывод основан на признании правильности стратегии реформы. Что касается сопротивления ей традиционалистских слоев, то оно было неизбежно, а трудности реализации определялись сжатостью исторического отрезка времени. Главное же, по мнению А.Н. Медушевского, состоит в том, что «вектор современных реформ в точности соответствует представлениям П.А. Столыпина». Автор на весьма широком материале системно рассмотрел проблемы преодоления правового дуализма и переходных форм собственности. Справедливо обращая внимание на неопределенность этимологии понятий «общинная», «общая», «общественная» собственность, он заключает, что подобная ситуация была весьма искусно использована левыми партиями, исходившими из идеологической презумпции о преимуществах общественной собственности над частной. В конечном итоге проблемы правового обеспечения аграрной реформы приобретали особое значение в конкретно-исторических условиях начала XX в.
Можно утверждать, что развитие советской и российской исторической науки имеет поступательный характер и дает толчок для дальнейшего изучения истории столыпинских преобразований. Однако еще не все аспекты данной исторической темы нашли освещение в работах отечественной и зарубежной историографии. Остается незавершенным и ряд вопросов, разработка которых способна не только конкретизировать и уточнить те или иные оценки, но и существенно расширить имеющиеся представления по ряду сюжетов в политической биографии П.А. Столыпина. Историографический анализ литературы последних лет свидетельствует, что многие взгляды на столыпинскую аграрную реформу остаются спорными. В ряде публикаций данная реформа П.А. Столыпина стала идеализироваться, ее экономические результаты – преувеличиваться. Многие стороны реформы раскрыты еще недостаточно: состояние сельского хозяйства накануне реформы, программа организации самой аграрной реформы в центре и на местах.
1. П.А. Столыпин в 1862–1902 гг.: формирование личности и взглядов
1.1. 1862–1881 гг.: детство и юность, гимназический период
Фамилия «Столыпин» считается не очень часто встречающейся на территории России, она была образована от прозвища «Столыпа» – так называли человека, который часто бродил без дела, вел праздный образ жизни. Дворянский род Столыпиных восходит к началу XVI столетия. Первый письменный документ о роде Столыпиных датирован 1566 г., когда «второй Титович Столыпин подписался на поручной записи бояр и дворян по князю Охлябинине». Последовательная поколенная роспись начинается с Григория Столыпина, жившего в конце XVI в. По свидетельству известного русского писателя-славянофила А.П. Аксакова, исследовавшего нисходящие ветви рода этого предка, «сын его Афанасий Григорьевич и внук Сильвестр Афанасьевич писались», как это видно из официальных документов, муромскими городовыми дворянами. Последний из них, Сильвестр, за участие в войне с Польшей в 1654–1655 гг. был награжден поместьем в Муромском уезде. У внука этого Сильвестра Афанасьевича – Емельяна Семеновича, бывшего товарищем Пензенского воеводы, было два сына: секунд-майор Димитрий Емельянович и Пензенский предводитель дворянства Алексей Емельянович. От брака последнего с Марией Афанасьевной Мещериновой было шесть сыновей. Александр, бывший адъютант генералиссимуса Суворова; Аркадий, друг М.М. Сперанского, женатый на дочери графа Николая Семеновича Мордвинова – Вере Николаевне и умерший в звании сенатора в 1825 г.; умершие в молодых годах Петр и Николай, генерал-лейтенант, убитый во время бунта в Севастополе в 1830 г.; Афанасий, бывший саратовский предводитель дворянства; Дмитрий, генерал-майор; и пять дочерей, из которых старшая, Елизавета Алексеевна, была замужем за капитаном Преображенского полка Михаилом Васильевичем Арсеньевым и имела дочь Марию, которая вышла замуж за Юрия Петровича Лермонтова, отца знаменитого поэта Михаила Юрьевича Лермонтова69. Дед будущего реформатора, Дмитрий Алексеевич Столыпин (1785–1826), генерал-майор, артиллерист, участник кампании 1805–1807 гг., отличился под Аустерлицем, впоследствии стал военным теоретиком, автором многих книг и специальных статей, он «был близок с П.И. Пестелем, и его, как передового и просвещенного человека, декабристы прочили, наряду с братом Аркадием Алексеевичем, Н.С. Мордвиновым и М.М. Сперанским, в состав Временного правительства» после свержения самодержавия70.
Отец П.А. Столыпина (он был двоюродным дядей М.Ю. Лермонтова) – Аркадий Дмитриевич Столыпин родился 21 декабря 1822 г. Его детские годы прошли в усадьбе Середниково. В шестнадцать лет он определился в конную артиллерию в должности фейерверкера 4-го класса, в девятнадцать – получил первый офицерский чин – прапорщика, но, дослужившись до подпоручика, вышел в отставку; когда русские войска отправились в Венгрию, А.Д. Столыпин вновь поступил на военную службу, затем участвовал в Крымской войне 1853–1856 гг. В период между Крымской и Русско-турецкой войнами, в сентябре 1857 г. он был назначен наказным атаманом Уральского казачьего войска. В первом браке А.Д. Столыпина с Екатериной Адриановной Устиновой в 1846 г. родился сын Дмитрий. В следующем году его первая жена умерла. Вторым браком А.Д. Столыпин был женат на княжне Наталье Михайловне Горчаковой – матери будущего премьер-министра, принадлежавшей к древнему роду, ведущему «отсчет от русского святого – князя Михаила Черниговского, замученного в Орде в 1246 г. «за твердое стояние за православную веру» (мощи его покоятся в Архангельском соборе Московского Кремля). Правнук мученика – князь Иван Титович Козельский принял фамилию Горчаковых в XVI в. Дмитрий Петрович Горчаков был писателем, противником сентиментализма. Сын его, Михаил Дмитриевич, руководил обороной Севастополя в Крымскую войну в самые трудные месяцы этой эпопеи. Наконец, дед Петра Аркадьевича Столыпина по матери – Александр Михайлович Горчаков был министром иностранных дел, а с 1870 г. – канцлером России71. «Таким образом, – по мнению А.П. Аксакова, – в Петре Аркадьевиче Столыпине соединилась кровь старинного весьма почтенного дворянского рода Столыпиных и княжеская кровь Рюриковны»72.
П.А. Столыпин начал свой жизненный путь в период «оттепели» XIX в. – либеральных реформ Александра II. Предыдущий царь Николай I был, по образному выражению знаменитого философа В.С. Соловьева, «могучим самодержцем» и «державным великаном», у которого «за суровыми чертами грозного властителя, резко выступавшими по требованию государственной необходимости… таилось ясное понимание высшей правды и христианского идеала». По мнению В.О. Ключевского, царствование Николая I многие «считали реакцией, направленной не только против стремлений, которые были заявлены людьми 14 декабря, но и против всего предшествовавшего царствования» либерального и прозападного Александра I. Согласно Л.М. Жемчужникову, Николай I «совмещал в себе качества противоположные: рыцарство и вероломство, храбрость и трусость, ум и недомыслие, великодушие и злопамятность… Он был верующий, но отличался жестокостью»73. Николай I был твердо убежден во всесилии государства как единственного выразителя интересов общества. Для этого ему необходим был мощный централизованный аппарат управления. Отсюда то исключительное положение в системе органов власти, которое занимала личная канцелярия монарха с пятью ее отделениями, «подмявшими под себя и подменившими собой всю исполнительную структуру власти в стране»74. Суть отношений общества и отдельных его членов с верховной властью была четко определена самим самодержцем: «Сомневаюсь, чтобы кто-либо из моих подданных осмелился действовать не в указанном мною направлении, коль скоро ему предписана моя точная воля»75.
Александр II очень сильно отличался от своего отца. Родители будущего императора были люди очень разные, но Александр гораздо более унаследовал характер своей матери. Он рос мягким, чувствительным и даже сентиментальным мальчиком. Чувства и переживания всегда играли в его жизни большую роль. Твердость и непреклонная властность, присущие Николаю I, никогда не были отличительными чертами его сына. В детстве Александр отличался живостью, быстротой и сообразительностью. Воспитатели отмечали в нем сердечность, чувствительность, веселый нрав, любезность, общительность, хорошие манеры и красивую внешность. Но вместе с тем признавали, что цесаревичу недостает настойчивости в достижении цели, что он легко пасует перед трудностями, не имеет характера и воли. Так, по свидетельству А.И. Герцена, сначала его вид «не выражал той узкой строгости, той холодной, беспощадной жестокости, как вид его отца; черты его скорее показывали добродушие и вялость». Однако со временем, по мнению Ф.И. Тютчева, Александр II «считал себя обязанным почти всегда принимать суровый и внушительный вид, который в нем был только плохой копией». Придя к власти, Александр II, под давлением обстоятельств и не имея никакой программы, начал принимать новые решения, не укладывавшиеся в старую систему и даже прямо противоположные ей. Он встал на путь освободительных реформ. Освобождение крестьян существенно изменило все основы русского государственного и общественного быта.
Петр Аркадьевич Столыпин родился (согласно метрическому свидетельству) 2 апреля 1862 г. (через год с небольшим после отмены крепостного права) в столице Саксонии Дрездене, где в то время у родственников находилась его мать. Детство П.А. Столыпин провел в Середниково, Колноберже, Вильно и Орле. Середниково (первоначальное название местности – Горетов Стан, по протекающей поблизости реке Горетовке. В центре Горетова Стана находилась пустошь Середняя, и поселение на ней было названо Средниково. Впоследствии название трансформировалось в современное Середниково, находилось в 30 верстах от Москвы). В 1825 г. Середниково приобрел генерал-майор Дмитрий Алексеевич Столыпин, брат бабушки М.Ю. Лермонтова – Е.А. Арсеньевой. Спустя год после покупки усадьбы Д.А. Столыпин умер, и владелицей стала его вдова Екатерина Аркадьевна. Сюда поэт вместе с бабушкой в 1829–1832 гг. приезжал на летние каникулы. Здесь М.Ю. Лермонтов испытал чувство первой любви, писал юношеские стихи, читал, переводил. В 1855 г. владельцем усадьбы стал Аркадий Дмитриевич Столыпин. Середниково в этот период представляло собой величественное зрелище: «Этот сад за дремлющим прудом, этот старинный барский дом, увенчанный бельведером, соединенный подковообразной колоннадой с четырьмя каменными флигелями, это строгое и простое в своей классической красоте произведение Растрелли»76. Кроме этого, в Середниково была большая библиотека – около 10 000 томов.
Между тем время было неспокойное. На исходе мая 1862 г. Санкт-Петербург оказался охвачен эпидемией пожаров, слишком многочисленных, чтобы их можно было считать случайностью. Не успевало догореть в одном месте, как уже поднимался столб дыма в другом. Начавшись с окраин, пожары добрались и до элитной части города. Полностью выгорели два крупных рынка близ Невского проспекта – Апраксин и Щукин дворы. Специальная следственная комиссия так и не нашла организаторов пожаров. Но и общество, и правительство были уверены, что это дело рук социалистов – за считаные недели до страшных пожаров жители Санкт-Петербурга, а затем Москвы и других городов начали получать по почте, обнаруживать в университетских клиниках, просто находить на улицах листовку «Молодая Россия»77. Решительностью заявлений она превосходила все, к чему уже успели привыкнуть столичные обыватели: «Своею кровью заплатят они за бедствия народа, за долгий деспотизм, за непонимание современных потребностей. Как очистительная жертва сложит головы весь дом Романовых!» Меры противодействия социалистам со стороны власти ограничились арестом в течение июня–июля 1862 г. вождей первой «Земли и воли» (включая Н.Г. Чернышевского), закрытием журнала «Современник», воскресных школ и шахматного клуба.
Резко ухудшилась ситуация и на западных окраинах России. С началом либерального царствования в Польше тяга к независимости приняла демонстративные формы: празднование памятных польских дат, ношение траура, отказ от русского языка. Александр II действовал по отношению к ней так же, как по отношению к студентам. 27 марта 1862 г. великий князь Константин Николаевич был назначен наместником Царства Польского. Император был обеспокоен подъемом национального движения в крае, но надеялся найти с поляками компромисс. Новому наместнику было предписано проводить «примирительную политику» (устранить самых неподходящих русских чиновников, расширить сеть школ, открыть Главную школу в Варшаве – по существу, восстановить университет, закрытый в 1831 г.). Но полякам этого было мало. В июле– августе 1862 г. состоялось три покушения на великого князя Константина Николаевича и руководителя гражданского управления маркиза А.И. Велепольского. Готовилось восстание, об этом открытым текстом сообщалось в «Колоколе». Главной целью восстания провозглашалась независимость Польши от России. Восстание началось в январе 1863 г. и было окончательно подавлено к маю 1864 г. Таким образом компромисс найти не удалось. Покидая Варшаву в октябре 1863 г., отставленный Константин Николаевич горько заметил: «Теперь наступает время палачей». Восстание ничего не дало для польской самостоятельности, но оно сильно изменило обстановку внутри России. Консервативная партия праздновала поражение великого князя Константина Николаевича и в его лице – всех реформаторов. Либеральная политика Константина Николаевича в Польше окончилась провалом, тогда как грубая солдатская работа пришедшего ему на смену М.Н. Муравьева обеспечила восстановление порядка, то есть «примирительная политика» закончилась традиционно: ружейной пальбой и артиллерийской канонадой. Польша стала для великого князя тяжелым поражением. Его открыто обвиняли в измене, в попустительстве националистическим устремлениям поляков. Давление было настолько сильным, что Константин Николаевич на некоторое время был вынужден отойти от дел и уехать за границу. Великий князь категорически отвергал обвинения: «Я свято исполнил данную мне программу. К глубокому сожалению, она не привела к доброму результату»78. Вероятно, это было правдой, он просто выполнял поручение Алексадра II.
Жизнь дворян второй половины XIX в. очень сильно отличалась от первой половины столетия (до отмены крепостного права). «Известно, что в старые годы… гостеприимство наших бар доходило до баснословных пределов, – писал П.А. Вяземский, – ежедневный открытый стол на 30, на 50 человек было дело обыкновенное. Садились за этот стол, кто хотел: не только родные и близкие знакомые, но и малознакомые, а иногда и вовсе незнакомые хозяину». У В.А. Всеволожского «даже в обыкновенные дни за стол садилось 100 человек». Все иностранные путешественники отмечали необычайное гостеприимство русских дворян. «В то время гостеприимство было отличительной чертой русских нравов, – читаем в «Записках» француза Ипполита Оже, – можно было приехать в дом к обеду и сесть за него без приглашения. Хозяева предоставляли полную свободу гостям и в свою очередь тоже не стеснялись, распоряжаясь временем и не обращая внимания на посетителей: одно неизбежно вытекало из другого. Рассказывали, что в некоторых домах, между прочим, у графа Строганова, являться в гостиную не было обязательно. Какой-то человек, которого никто не знал ни по имени, ни какой он был нации, тридцать лет сряду аккуратно являлся всякий день к обеду. Неизбежный гость приходил всегда в том же самом чисто вычищенном фраке, садился на то же самое место и, наконец, сделался как будто домашнею вещью. Один раз место его оказалось не занято, и тогда лишь граф заметил, что прежде тут кто-то сидел. «О! – сказал граф, – должно быть, бедняга помер». Действительно, он умер дорогой, идя по обыкновению обедать к графу»79.
Крупная помещичья благоустроенная усадьба первой половины Х1Х в. представляла собой замкнутый хозяйственный организм. Из продуктов раз или два в год закупали на ярмарках только чай, кофе, сахар, рис, изюм, чернослив для вина. Эта замкнутость усадьбы усиливалась еще и наличием в ней собственных мастерских с крепостными ткачами, кружевницами, вышивальщицами, портными, сапожниками, столярами, живописцами, музыкантами и певчими, поварами, виноделами. В пореформенный период все изменилось. Многие дворяне практически потеряли свое первоначальное престижное положение высшего сословия империи в связи с ухудшившимся материальным положением. Продавая большую часть земли и по возможности оставляя за собой усадебный дом предков с приусадебной территорией, эти поместные дворяне все чаще стремились поступить на службу в город. Но формируемое поколениями у многих помещиков-крепостников нежелание и неумение трудиться, склонность к беспечности, недостаток инициативы, слабо развитое чувство ответственности вызывали на службе в городе подчас неприязнь и даже презрение у деловых людей. Поэтому они пытались возвратиться к своему старому положению, особенно если у него еще сохранились не только усадебный дом, но и часть имения, и в новых условиях путем повинностей, сдачи в аренду земли, стараясь удержаться «на плаву» уходящего из-под ног прежнего благополучия80.
Поэтому в 1869 г., не имея финансовой возможности поддерживать такое большое имение, А.Д. Столыпин продал его купцу 1-й гильдии И.Г. Фирсанову (известному московскому купцу, нажившему в сравнительно короткое время громадное состояние в несколько десятков миллионов рублей). Имение было куплено за 75 тыс. руб., причем И.Г. Фирсанов вернул эти деньги, только продав на вырубку окружавший усадьбу лес (около 1 тыс. дес.); распродажа антикварной обстановки усадьбы дала ему еще 45 000 руб.81 Пахотные земли, леса и усадьба впоследствии были проданы более чем за миллион рублей, а на его землях был построен полустанок Фирсановка Николаевской железной дороги82.
До XVIII в. включительно дворянский ребенок был желанным как продолжатель рода, но бесправным существом. Его обыденные отношения с родителями определялись этикетом и не были особо близкими. Становясь взрослыми, дети сохраняли зависимость от родителей в повседневной жизни. Во взаимоотношениях с братьями и сестрами, которые были на положении взрослых, сохранялась та же дистанцированность. Ниже детей в повседневной жизни по положению были только крепостные. По отношению к детям допускалось любое действие (например, наказания, переходящие в истязания). Положение ребенка-дворянина в XVIII – первой половине ХIХ в. можно назвать полубесправным: он занимал низшее положение в повседневной жизни по отношению ко всем свободнорожденным, но в то же время не смешивается с крепостными. Государство начинало рассматривать дворянского ребенка как потенциального служащего по достижении 10 лет. К этому возрасту обыденная жизнь и обучение ребенка были таковы, что он, как правило, оставался малограмотным или совсем неграмотным. В первой половине XVIII в. родители сначала под нажимом государственной власти, а позже добровольно сделали уроки частью повседневной жизни своих детей. Дети, отданные в учебные заведения, где весь распорядок их обыденной жизни был направлен на обучение, имели шанс получить неплохое по тем временам образование, но их было меньшинство. Мальчиков готовили к исполнению служебных обязанностей, а девочек – к семейной жизни. При низком уровне образованности и полной несамостоятельности малолетний дворянин оказывался на военной или гражданской службе чаще всего по решению взрослых. Служба для таких детей составляла содержание их повседневной жизни. После часов, проведенных на рабочем месте, ребенок возвращался к своим играм и занятиям. Для некоторых мемуаристов служебная повседневность заменила школу. Несмотря на низкий образовательный уровень, детям могли доверять исполнение ответственных поручений83.







