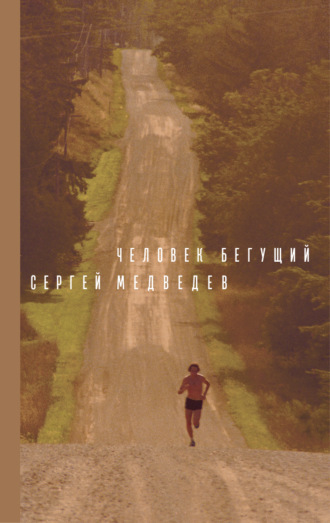
Сергей Медведев
Человек бегущий
Но главным было ощущение реки как живого существа, ее силы и нежности, запаха чистой речной воды, ее неумолимого безмолвного бега. Словно это река времени, и ты борешься с его потоком, проходишь сквозь него. Гребешь и думаешь: это же та самая река, на которой прошла добрая половина русской истории, и баржи подваливали к причалам Зарядья, и зимой лабазники выпиливали кубы льда и везли на санях в магазины, и на масляную сходились на льду кулачные бои стенка на стенку, и смывали кровь с разбитого лица – и журчит все та же вода, век за веком, безразличная к царствам и судьбам, как метафора вечности, которую ты сейчас разгребаешь собственными ладонями, но она ускользает сквозь пальцы.
И все же эти домашние тренировки не могли подготовить меня ко встрече с Босфором. Я прилетел в Стамбул утром накануне заплыва и сразу отправился на ознакомительную прогулку на пароходике, предоставленном организаторами. Пара сотен пловцов сгрудились у борта, отмечая ориентиры – пролеты моста Султана Мехмета, маяк Румели Хисар, Военная академия и остров Галатасарай. Шутки затихли, когда мы увидели всю ширину и мощь Босфора, неумолимое бурлящее течение, волны и водовороты, гигантские танкеры и сухогрузы с ржавыми, потертыми бортами: завтра движение судов закроют на время заплыва, но сейчас их внушительный размер был под стать величию этого места.
Вечером я пошел ужинать к пристани Эминеню у входа в залив Золотой Рог. Это настоящее сердце Стамбула, рассылающее потоки крови по артериям города, где бьется вода под винтами десятков паромов, ежеминутно отчаливающих в разные районы на обоих берегах Босфора, сшибаются двухметровые волны, выхлопные трубы пароходов выплевывают сизый дым вперемешку с водой и с криком пикируют чайки на взбаламученную пену. На Галатском мосту уже зажигались огни, под яркими лампами бурлил Египетский рынок с полными лотками специй, призывала к вечерней молитве Новая Мечеть, и ей сверху эхом вторила азан сказочная воздушная мечеть Сулеймание. Вдоль пристани стояли жаровни, где продавали «балык-экмек», багеты с филе макрели на салатном листе, и мидии, нафаршированные рисом. От жажды жизни и полноты ощущений я умял два бутерброда, запив их свежевыжатым гранатовым соком, который продавал тут же из тележки меднолицый турок в феске, разрезая надвое большие гранаты и давя их прессом с длинным рычагом. Я купил и третий экмек, но уже не осилил его и поделился с ленивыми бездомными псами, обжившими центр Стамбула и ставшими городским достоянием – их тут берегут, чипируют, лечат, поят, и каждый желающий может их покормить из специальных автоматов, отсыпающих им в миски сухой корм в обмен на пустые бутылки. Большой добродушный пес с чипом в ухе понюхал булку, из вежливости взял кусок рыбы, подержал в пасти и уронил.
Пить кофе я отправился на полусонный вокзал Сиркеджи, расположенный в двух шагах от пристани, в затейливом здании в стиле модернистского ориентализма. В былые времена сюда прибывал «Восточный экспресс», но сегодня о былой роскоши свидетельствовали лишь ретроресторан и станционный колокол, когда-то возвещавший об отправлении и прибытии поезда. Вокзал был пуст, одиноко горели лампы на пустых столиках, бармен дремал, уронив на грудь гордый нос с роскошными усами – эпоха, несомненно, завершилась.
Наутро я проснулся в шесть от молитвы первого луча, голоса минаретов вступали один за другим в пронзительной полифонии. В моем мини-отеле завтрак так рано еще не подавали, и, подхватив рюкзачок, я выскользнул в утреннюю прохладу района Ортакёй – в лабиринт узких улочек, спящих рынков, книжных развалов, накрытых пленкой от ночной сырости. Кафе еще были закрыты, но на углу работала круглосуточная лавка с шаурмой, где подавали свежевыпеченные лепешки и пили чай из маленьких пузатых стаканчиков мусорщики и работники ночных смен. Я тоже взял чайник медного, густого чая с мятой и чабрецом и к нему «симит», горячий бублик с кунжутом, в который клали масло и сыр. Утреннее солнце дробилось на пятна сквозь листья платанов, и в глубине ветвей уже вовсю горланили птицы.
К парку Куручешме в районе Бешикташ стекались сотни людей, разминались на траве, мазались солнцезащитными и разогревающими кремами – вода в главном течении по фарватеру пролива будет холодной. У пристани нетерпеливо качались и фыркали катера, сверху жужжал рой операторских дронов, еще выше над ними завис вертолет. В 9 утра мы начали заходить на два трехпалубных парома, которые должны были отвезти нас к месту старта на причале Канлыджа на азиатском берегу: сотни людей разного возраста, пола и комплекции в плавках или купальных костюмах, шапочках и очках – часы, гаджеты, браслеты, кольца строго запрещены, так же, как и неопреновые гидрокостюмы, и маршалы зорко следят за этим на входе. На пароме везут твою голую жизнь, помеченную только номером на шапке и чипом на ноге, чистую человеческую экзистенцию, нервно вибрирующую от предстоящей встречи со стихией. Чувство беззащитной телесности усугублялось тем, что все были в одинаковых тряпичных тапочках, как в гостиничном номере, которые выдали организаторы.
Паром долго швартовался к стартовому понтону, в 10 часов была дана команда на старт, и мы медленно и торжественно, палуба за палубой, стали спускаться на понтон, один за другим прыгая в воду. Внизу оказался ковер из сброшенных белых тапочек: разбежавшись по нему, я услышал писк чипа и прыгнул солдатиком, придерживая очки руками, чтобы заплыв не закончился, едва начавшись. Вынырнув, я быстро отплыл вперед, чтобы не угодить под прыгающих следом, увидел впереди мост Султана Мехмета, и поплыл, ориентируясь на красный флаг в его среднем пролете. Довольно быстро я ощутил, что попал в прохладную воду, и это был хороший знак – попутное течение из Черного моря в Средиземное на 2–3 градуса холоднее встречных потоков и заметно быстрее, скоростью до 5 узлов, 9 километров в час. Оглядевшись вокруг, я обнаружил, что рядом почти никого нет – пловцы растянулись широким фронтом по проливу, каждый ловя свое течение и траекторию. Я был один на один с Босфором, в окружении мостов, ялы, мечетей, чинар и далеких холмов, что едва угадывались в дымке.
Сверху набежала густая тень, сразу похолодало: мы вплыли под мост. Но вот мы его миновали, а сумрак все не уходил – это набежали низкие облака и поднялся сильный встречный ветер, нагонявший волну. Пристрелянные ориентиры на берегу скрылись в пелене, а компьютера на руке не было, чтобы отмерить расстояние. Я начал считать гребки, чтобы понять, какую дистанцию проплыл и когда надо сворачивать к европейскому берегу по параболе – иначе течение унесло бы меня к Босфорскому мосту (переименованному пару лет назад в Мост мучеников 15 июля): под ним дежурили лодки спасателей, отлавливавших неудачливых пловцов, чтобы тех не унесло в Мраморное море, и возвращавших их на финиш с бесстрастной пометкой DNF (Did Not Finish) в протоколе. По плану я должен был начинать поворот напротив острова Галатасарай, но за волнами и моросью начинавшегося дождя он все не появлялся. А когда я наконец увидел европейский берег, то был уже напротив двух больших желтых буев, обозначавших финишный створ, и течение неумолимо несло меня мимо них к мосту.
Повернув под 90 градусов, я начал изо всех сил грести на берег, но желтые шары уходили все правее, и я уже думал оставить борьбу и сдаться на волю течения, доплыв до спасателей, как вдруг почувствовал, что тяга его ослабла и вода потеплела: я попал в противоток из Мраморного моря в Черное, который начал потихоньку нести меня к финишу. Еще несколько минут напряженной, до судорог в ногах, работы, и я приближаюсь к финишному понтону с лесенками, но возле него встречное течение особенно сильное и сносит меня вверх. Вместе со мною борются еще десяток пловцов, мы гребем бок о бок, задеваем друг друга руками – тут я понял, почему нельзя брать с собой часы – кто-то цепляет меня за лодыжку, одновременно я получаю удар пяткой в ухо, но все же подбираюсь к спасительному поручню, хватаюсь за него ослабевшими руками и вытаскиваю себя наверх. Меня подхватывают сильные руки, снимают чип, укутывают полотенцем, я унимаю стучащие зубы и что-то отвечаю на вопросы, а сам смотрю на разволновавшийся серый пролив, на разрозненные группы пловцов, сражающихся с течением перед понтоном, на укрытые одеялами тела, что лежат под капельницами в палатке медиков – и ко мне приходит ощущение финиша и масштаба всего того, что произошло. Нам обещали увеселительный заплыв по течению, а в итоге получился античный эпос с битвой стихий.
Позже я узнаю, что встречное течение оказалось небывало сильным, как бывает раз в десять—пятнадцать лет, и те, кто заходил на финиш по правильной глиссаде, не могли с ним справиться и гребли на месте по 30–40 минут, пока не лишались сил и не поднимали из воды руку с шапочкой, сигнализируя спасателям; в результате почти треть участников, 700 человек, не смогли финишировать или не уложились во временной лимит в 2 часа. А мне, напротив, повезло: потеряв в непогоду ориентиры, я гораздо позже свернул на финиш, и в итоге противоток мне помог. Дождь припустил сильнее, перешел в ливень, и я пошел в раздевалку, сочувствуя сотням людей, еще борющихся с волнами. Мое итоговое время было 1 час 20 минут – на десять минут медленнее, чем у Байрона, покорившего похожую дистанцию больше двухсот лет назад, без спасателей, вертолетов и плавательных очков.
4
Байрон был не только первоклассным пловцом, но во время учебы в Кембридже преуспел также в верховой езде и боксе – необходимых умениях истинного джентльмена – не отказывая себе, впрочем, в попойках, кутежах и картежной игре, отчего постоянно залезал в долги. Он стал иконой своего времени, на многие десятилетия вперед задав западной культуре образ бунтаря-одиночки, бросившего вызов обществу, власти и филистерской рутине – но также и физическим пределам организма. Герой времени был романтическим мечтателем не только с тонкой душой, но и с закаленным телом. Спорт входит в кодекс джентльмена как основа, на которой развивается деятельная, предприимчивая и гармоничная личность эпохи.
Здесь важно само происхождение английского понятия «джентльмен», которое связано с названием сословия gentry – нетитулованное мелкопоместное дворянство, что активно включалось в новый хозяйственный и социальный уклад. Это были не праздные феодалы, живущие на ренту от своих владений, а люди нового времени, благородного происхождения, имеющие право носить оружие (каковое право, впрочем, покупалось) и живущие за счет своего труда: открывая рудники и мануфактуры, участвуя в войнах на Континенте, служа при дворе, в торговой компании или адвокатской конторе, которые возникали в то время в изобилии. К концу XVI века сложилось четкое различие между дворянином и джентльменом, а к XIX веку джентльмен стал не сословным понятием, а социальным типом, что включало в себя определенный образ жизни, строй мысли, самостоятельность и стремление к совершенствованию. Помимо образования и профессиональных качеств джентльмен должен был обладать широтой интересов, в том числе обязательно иметь хобби, которое могло поглощать значительную часть его времени. Многие гордились успехами в своем увлечении больше, чем в своей основной профессии: известно, что Владимир Набоков, создавший классический образ джентльмена в XX веке, ценил свои достижения в энтомологии выше, чем на литературном поприще – и он же, кстати, в Берлине зарабатывал на жизнь уроками тенниса и бокса.
В интересы джентльмена непременно входил спорт: само это слово, идущее от старофранцузского desport, «игра», «забава», изначально подразумевало любое развлечение, от охоты до скачек, но со временем стало обозначать физическую активность. Переломным моментом тут стала Славная Революция 1688 года, которая отменила пуританские запреты на увеселения. Британцы стали адаптировать различные деревенские игры – борьба, кегли, футбол – и аристократические развлечения, такие как скачки и фехтование, под запросы растущего городского населения. Одновременно стало популярным делать ставки на участников или на результаты соревнований, что вскоре привело к выработке правил и появлению первых спортсменов-профессионалов. В XVIII веке при дорогих ресторанах и модных кафе стали возникать клубы по интересам, и в их числе, вслед за охотничьими, возникли спортивные клубы: яхтсменов, гребцов, игроков в крикет – последний особенно был популярен, называясь «первой из всех спортивных дисциплин».
Идея спорта проникает в элитные учебные заведения, воспитывавшие тех самых джентльменов: среди студентов культивируется гребля (знаменитая лодочная регата Оксфорд – Кембридж на Темзе проводится с 1829 года), плавание, метание копья, прыжки. Английские педагоги наследовали идеям Просвещения о естественном порядке: Руссо учил, что ребенок должен формироваться в борьбе с силами свободной природы – лазать по деревьям, прыгать по камням, перелезать через каменные ограды, плавать. Реформатор образования и ректор колледжа в Регби Томас Арнольд, сам блестящий специалист по античности, в 1830-х годах включил физические упражнения в обязательную программу обучения и стал нанимать профессиональных тренеров в качестве педагогов – его считают отцом слова «спорт» в современном значении, и там же, в Регби, родилась одноименная разновидность игры с мячом.
Подобное воспитание тела и духа привело в начале XIX века к тому, что спорт вошел в ежедневный обиход нового городского класса, и прежде всего джентльменов как законодателей мод. В нем сочетались аристократизм, выраженный в понятии fair play, и определенный демократизм: в гимнастическом зале и на боксерском ринге представители разных сословий были поставлены в равные условия. Важным элементом спорта стала работа над телом – одновременно с тем, как развивалась культура дендизма с ее маниакальным вниманием к платью и внешности, спортсмены занимались своим физическим телом: манежи и клубы украшались атласами мышц, иллюстрациями атлетических тел с указанием идеальных пропорций. Спорт культивировал идею самосовершенствования и успеха и одновременно – страсть к измерению окружающего мира: он становился наукой о секундах, сантиметрах и таблицах, о строгой сертификации рекордов. Вслед за всеобщей рационализацией и бюрократизацией, в нем устанавливались правила, кодексы, хартии, появлялись федерации, менеджеры и чиновники. В то же время – спорт был во многом иррационален, как и законы капитализма, и свободную игру рыночных стихий в нем представляли ставки и пари; а свойственный спорту авантюризм отражал опасности и риски эпохи глобальных путешествий. Спорт выражал сам дух Нового времени и нового человека.
Но тот же самый капитализм порождал не только героя-индивидуалиста, но и массовое общество индустриальной эпохи, с задымленными городами, цехами, промышленными центрами, куда стекались миллионы работников: им нужен был не только хлеб, но зрелища, идея, идентичность, которая давала бы смысл их еженедельному трудовому циклу, эмоциональный спектакль, в котором можно было выразить свое недовольство, гнев, агрессию, надежду, жажду единства. Таким зрелищем для масс стал спорт, и прежде всего футбол, развивавшийся в промышленных центрах: в фабричном Манчестере, портовом Ливерпуле, шахтерском Кардиффе; названия клубов британской Премьер-лиги – это география промышленной революции. Сценарий этого спектакля наследовал площадным представлениям в эпоху Средневековья, позволял выплеснуться низменным страстям, облекал грубость и жестокость в формы сценического действа. Интересно при этом, что регби – игра, казалось бы, основанная на куда более жестком физическом контакте, эволюционировала в сторону большего аристократизма: на рубеже веков в Британии родилось известное высказывание, которое ошибочно приписывают, как и все цитаты в мире, то Уинстону Черчиллю, то Оскару Уайльду: «Футбол – это спорт для джентльменов, в который играют хулиганы, а регби – спорт для хулиганов, в который играют джентльмены».
Одновременно спорт стал сценой для главной страсти эпохи: национализма. Вслед за Британией и Францией в мир наций вступали Германия и Италия, объединенные Бисмарком и Гарибальди, вздымались новые флаги и воскрешались древние мифы, звучали Вагнер и Верди, строились оперные театры с патриотическим репертуаром, рождалось коллективное тело наций. Этот процесс имел и физическое измерение – патриотизм становился телесной практикой, отправление национальных ритуалов включало в себя гимнастические упражнения и единоборства, военно-спортивные игры. В Германии развивалось движение турн-гимнастики, возникшее еще во времена борьбы с Наполеоном и ставшее особенно популярным в эпоху национального возрождения: «турнферайны» (аббревиатуру TV по-прежнему носят многие немецкие спортклубы) устраивали коллективные упражнения, маршировали с барабанами, строили пирамиды из тел. Тем же самым занималось сокольское движение в Чехии, основанное в Праге в 1862 году: «соколы» в своей подготовке делали упор на фехтовании, тяжелой атлетике, маршировке и особой «сокольской гимнастике», на их многотысячных спортивных фестивалях, «слетах», пропагандировались идеи чешского национализма и панславизма.
К началу XX века эпоха романтического национализма окончательно уступила место эпохе империализма и войны. Массовый спорт был присвоен большими государственными машинами по производству насилия, и тон здесь задавали тоталитарные режимы. В фашистской Италии тысячи людей маршировали и делали гимнастические упражнения с винтовками в палестрах и римских амфитеатрах под надменным взглядом Дуче. В нацистской Германии спорт стал религией, воспетой Лени Рифеншталь, которая возвела арийский культ тела к древнегреческому мифу и к античной пластике; Олимпиада 1936 года в Берлине была важнейшей частью фашистского идеологического проекта, как и проведенная впервые эстафета олимпийского огня, зажженного в священной роще в Афинах. В сталинском СССР спорт был «приводным ремнем» полувоенного государства, готовившего население к труду и обороне:
Эй, вратарь, готовься к бою,
Часовым ты поставлен у ворот!
Ты представь, что за тобою
Полоса пограничная идет! —
призывала песня, и любое спортивное действо виделось метафорой войны, близкой и неизбежной. Обнаженные стройные юноши в трусах и девушки в трико маршировали по Красной площади, кричали «ура!», строили гимнастические фигуры – трактор, танк, паровоз: государство распоряжалось телами как послушной, пластичной биомассой. Оставалась всего пара лет до того, как все они были брошены в мясорубку Второй мировой.
После войны огосударствление спорта в Советском Союзе вышло на новый уровень: теперь он виделся не только как средство мобилизации населения на трудовые и ратные подвиги, но как витрина социализма. В 1952 году, еще при жизни Сталина, СССР вышел из добровольной спортивной самоизоляции и присоединился к олимпийскому движению. Была поставлена задача «догнать и перегнать» Запад по количеству рекордов и медалей, и под нее выделены ресурсы и отстроена целая отрасль: снизу была система массовых стартов (в основном показушных, для бюрократической отчетности) и сеть детско-юношеских спортшкол, сверху – спорт высших достижений. Вся система подготовки атлетов и распределения ресурсов строилась с прицелом на олимпийские медали, спортивная индустрия превратилась в стратегическую отрасль по добыче золота.
Все начиналось с детских спортшкол, где происходила жесткая селекция только самых перспективных, а остальные, не пройдя сито отборов и соревнований, отсеивались на ранних стадиях, нередко получая проблемы со здоровьем и стойкое отвращение к спорту на многие годы вперед. Сколько я видел таких бывших спортсменов, не знавших в детстве ничего, кроме тренировок, переездов, сборов и отборов, выполнивших к своим 18–20 годам норматив мастера спорта, но затем не попавших в молодежную сборную, потому что на какие-то доли секунды не уложились в зачетные нормативы, и махнувших рукой, завязавших со спортом: люди начинали пить и гулять, добирая упущенные развлечения, набирали вес – и возвращались к занятиям лишь 15–20 лет спустя, уже в качестве любителей.
Единственным критерием были медали: победители получали от государства награды, машины, квартиры, депутатские мандаты, а те, кто не пробился наверх, – подорванное здоровье и в лучшем случае тренерскую работу: спортивная машина превращала тела в рекорды и отбрасывала отработанный материал. Основатель современного олимпизма Пьер де Кубертен вывел в 1913 году свою знаменитую формулу: «На сто человек, занимающихся физкультурой, должно быть пятьдесят, занимающихся спортом; на пятьдесят, занимающихся спортом, должно быть двадцать, специализирующихся в отдельной дисциплине; на двадцать специалистов должно быть пятеро, обладающих удивительными возможностями», из этих пятерых, добавим мы, один становился олимпийским чемпионом. В этой идеальной «пирамиде Кубертена» основанием были физкультура и массовый спорт, в них следовало делать основные вложения и из них путем естественного отбора вырастали бы атлеты мирового уровня. В СССР же эта пирамида была поставлена с ног на голову: массовый спорт существовал «для галочки» и для бравурных газетных отчетов, а реальные ресурсы направлялись только в спорт высших достижений, где производился искусственный отбор, ставились медицинские и биологические эксперименты и выращивались «лабораторные атлеты», призванные доказывать преимущества социализма.
Вслед за Советским Союзом во всемирную гонку спортивных вооружений включались сателлиты: ГДР, Румыния, Куба, создававшие допинговые машины по примеру советской. Особенно преуспела в этом Восточная Германия, относившаяся к спортивной медицине за гранью этики и прав человека с чисто прусским педантизмом: применение анаболиков и гормональных средств было в сборной ГДР обязательным, а порой и принудительным, причем включали в нее уже с 12-летнего возраста. Допинговая программа искалечила целое поколение восточногерманских атлетов: одни умерли от цирроза печени или получили диабет, другие от приема тестостерона превратились из женщин в мужчин, как легкоатлетка Хайди Кригер, ставшая Андреасом Кригером, у иных женщин случались выкидыши и рождались дети с дефектами конечностей. Некоторые из рекордов московской Олимпиады 1980 года, проходившей без участия команд западных стран, где подавляющее большинство медалей было выиграно атлетами социалистического лагеря, не побиты до сих пор – допинг-контроль того времени ловил лишь малую часть запрещенных веществ и проходил под надзором советских спортивных чиновников.
Впрочем, мало что может сравниться с допинговой аферой России на зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году, когда спортсмены принимали специальный коктейль «дюшес» из анаболических стероидов с «мартини», маскирующий запрещенные вещества, а по ночам агенты спецслужб проникали в опечатанную антидопинговую лабораторию через заранее прорубленную дырку в стене и подменяли в шкафах грязные пробы мочи российских атлетов на чистые, взятые задолго до соревнований. Когда перебежчик из России, биохимик Григорий Родченков, который долгое время был «мозгом» российской допинговой программы, раскрыл шокирующие подробности этой операции, санкционированной высшим руководством страны, российскую команду исключили из мирового олимпийского движения, и спортсменов из России сейчас приглашают на Олимпиады лишь в индивидуальном качестве.
И если российская допинговая программа впечатляла своими масштабами и государственной поддержкой, то в целом проблема допинга является системной в профессиональном спорте во всех странах мира – и здесь работает уже не политическая, а коммерческая мотивация: погоня за призовыми, успехом и славой. Особенно преуспели в этом виды спорта на выносливость, где врачи колдуют над повышением транспортной способности крови – чтобы она доставляла к мышцам больше кислорода – и используют для этого почечный гормон эритропоэтин (ЭПО). Мой любимый велоспорт уже больше двух десятков лет сотрясают допинговые скандалы, от дела «Фестины» в 1998 году, когда французская полиция обнаружила целый букет запрещенных препаратов у представителя команды, до «операции Пуэрто», когда в клинике испанского доктора Фуэнтеса были обнаружены сто пакетов с кровью ведущих велогонщиков. На допинге (или аномально высоком гемоглобине или гематокрите) попадались ведущие спортсмены – Марио Чипполини, Эрих Цабель, Ян Ульрих, Александр Винокуров: считалось, что в в 1990-х и 2000-х годах на ЭПО ехала большая часть профессионального пелотона.
Кульминацией стало разоблачение в 2012 году кумира поколения (и в тот момент моего тоже) американца Лэнса Армстронга, который не только выиграл при помощи допинга свои рекордные семь титулов Тур де Франс, но и принуждал принимать допинг членов своей команды: молодых велогонщиков будили среди ночи и сажали на велостанки, заставляя крутить педали – иначе вязкость их крови, загустевшей от повышенного гемоглобина, в сочетании с низким ночным пульсом могла привести к остановке сердца. Преуспели в допинге и другие циклические виды спорта: можно вспомнить олимпийских чемпионов легкоатлетов канадца Бена Джонсона и американку Марион Джонс, а также грандиозный допинговый скандал на чемпионате мира по лыжам в Лахти в 2001 году, когда в употреблении ЭПО была уличена вся сборная Финляндии, включая легенду лыж Харри Кирвисниеми.
Проблема допинга гораздо больше, чем спорт, – это императив современной цивилизации, ищущей «волшебную пилюлю», легкий путь к успеху, это культ модификации тела, от пластической хирургии до генной инженерии, и возможно, в секретных китайских лабораториях уже выращивают генно-модифицированных атлетов. Есть много сторонников допинга, которые говорят, что надо разрешить любые эксперименты с телом ради зрелищности и новых рекордов, что это новая антропология и этап в эволюции человека с использованием технических достижений, «человек плюс», трансгуманизм. Мне эта логика чужда – человек в ней превращается из субъекта в объект, в носителя заемных медицинских, фармацевтических и генетических технологий, исчезает свобода воли и идеал самосовершенствования. Допинг – это не столько обман других, сколько обман себя; для меня спорт – это увлекательная работа с собственным телом, с его физическими и психологическими пределами, которые можно расширять при помощи упорства и воли, победа естественного порядка над искусственным, природы над цивилизацией, и любой внешний агент, типа таблетки или импланта, разрушит этот процесс самосовершенствования.
У меня есть собственный, годами проверенный, допинг: перед стартом за ужином выпивать пару бокалов красного вина – для повышения гемоглобина, для помощи желудку при поглощении гаргантюанских порций углеводов и для крепкого сна. Впрочем, я и в обычной жизни сажусь ужинать с вином – привычка, которую приобрел в Италии и от которой не отказываюсь уже двадцать лет – но накануне старта она обретает характер священнодействия. Однажды зимним вечером в Москве, накануне 50-километрового лыжного марафона имени Кузина и Барановой, которым обычно открывается марафонский сезон в столице, я готовил ужин: уже кипела вода для спагетти, был натерт на крупную терку пармезан, нарезана пластами моцарелла, и бакинский помидор, политый оливковым маслом, искрился кристаллами на срезе. Я достал из буфета бокал и вдруг с ужасом понял, что в доме кончилось красное вино. Я в панике взглянул на кухонные часы: на них было 22:50. Я, как был в домашних штанах, вскочил в кроссовки, схватил пуховик и кредитку, в лифте зашнуровался, вылетел из подъезда и по обледеневшей улице спринтовал к ближайшему супермаркету в километре от дома. Бежал я, думаю, в темпе гораздо быстрее 3:30 минут на километр, влетел в магазин в 22:59, за минуту до закрытия продажи алкоголя, схватил попавшуюся под руку бутылку сицилийского Неро д’Авола – а на единственной открытой кассе очередь! Пять человек!
– Вино! – кричу я сзади.
– Вино! – отвечает эхом очередь и передает по рукам мою бутылку, как младенца в кинофильме «Цирк», прямо к кассиру, которая сканирует ее, и очередь ждет, затаив дыхание: успел ли? Терминал издает писк, я сую кредитку, вылезает чек: успел! Люди выдыхают, улыбаются, кассирша меня поздравляет, я выношу бутылку из магазина аккуратно, как приз, и обратно уже бегу по льду осторожной трусцой. Макароны, кстати, почти не переварились. Приготовились пусть и не до итальянской жесткости al dente, но до среднеевропейских значений. А вино оказалось молодое, но уже с сильным и терпким характером региона, где солнце светит триста шестьдесят дней в году.
Крепкий алкоголь я перед гонкой пить не стану, хотя эспрессо с рюмкой граппы (caffè corretto, «приправленный кофе», как называют его в Италии) после хорошего ужина никак не навредит – и, кстати, кофеин является для меня еще одним разрешенным стимулятором, роль которого признают многие атлеты и который входит в состав спортивных гелей и напитков; сам я выпиваю ежедневно до 4–5 порций крепкого кофе и не представляю свой день без пары чашек на завтрак. А после старта, особенно летом, отлично восстанавливает бутылка пива: оно пополняет запасы углеводов, витаминов и кремния, необходимого для костей; мысль о бокале светлого лагера или пшеничного белого придает силы на последних километрах длительной воскресной пробежки по жаре. Хотя, бывает, пиво помогает и зимой: после финиша Тартуского лыжного марафона, одного из самых уютных и домашних стартов, в финишном городке в Элве дают горячее темное пиво – бархатное, горько-сладкое, одновременно утоляющее жажду и голод: я, бывает, выхлебываю его по два полных бокала и не чувствую ни малейшего опьянения, только тепло и сытость разливаются по венам. Еще один разрешенный стимулятор – музыка перед стартом. Я помню, на одном из забегов (это был горный марафон в Лихтенштейне) за пять минут до старта организаторы включили магическую песню AC/DC Thunderstruck: я и в обычной жизни от нее прихожу в экстаз, и однажды в машине, когда ее передавали по радио, пришлось съехать на обочину и там уже оторваться по полной, – а тут я буквально выстрелил из стартового створа и понесся вдоль берега Рейна. Хард-рок и хеви-метал вообще хороши в качестве ускорителя, разгоняя кровь, учащая пульс, настраивая одновременно на боевой и возвышенный лад, – но точно так же для меня работает и музыка барокко, что не случайно: рок и барокко родственны по своей ритмической структуре, основанной на остинатном басе, Ричи Блэкмор преклонялся перед Бахом, и у меня есть запись, где Rainbow играют на репетиции рок-версию Английской сюиты соль-минор. Так что перед стартом вполне можно послушать баховские токкаты или вступительный хор из «Страстей по Иоанну». Впрочем, в качестве энергетической зарядки подойдет масса классической музыки, от финалов симфоний Брукнера до финала Третьей Шуберта, летучей тарантеллы, от которой ноги сами пускаются в пляс.


