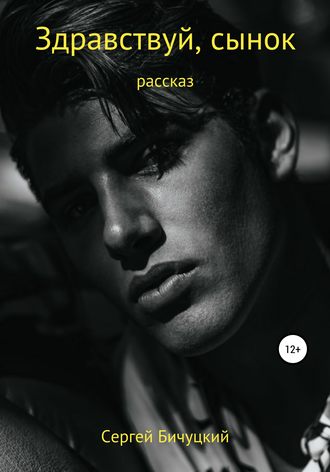
Сергей Марксович Бичуцкий
Здравствуй, сынок
Зорька не подкачала и сегодня. Литров одиннадцать дала с гаком. Семёныч подкинул сена, взял полное ведро молока и поковылял домой. Ноги стали последнее время что-то отказывать. Да и руки, по правде говоря, тоже. От постоянной дойки скрючились пальцы, как коряги стали. Ни согнуть без боли, ни разогнуть. Порой так припекало, что приходилось просить о помощи либо Наталью Николаевну, либо Катерину. Предлагали женщины сами по очереди доить, но Семёныч ни в какую не хотел отдавать часть своей жизни. Чего это вдруг? А ему что? Сидеть да охать? Не в его это правилах! «Пока силы есть ложку в руках держать, нечего на печи лежать! – любил повторять отец. – Можешь есть, значит можешь и работать!». Семёныч запомнил, и себе, как правило жизни взял. Не скулил, не жаловался, а просто работал. Начинать, правда, трудно было, а как разойдётся, так и боль незаметно уходит. Знал это, поэтому и не соглашался на помощь.
Принёс ведро домой, отлил пол-литра, а остальное потащил к соседке. Наталья Николаевна давно встала и уже растапливала печку. Гостя встретила с улыбкой:
– Не подвела, родимая? – спросила вместо приветствия.
– С чего бы это? – незлобиво ответил Семёныч, и поставил посудину на специально приготовленную табуретку.
Хозяйка сходила в сени, принесла большую алюминиевую кастрюлю, какими раньше в столовых пользовались, и поставила на плиту. Семёныч, охнув, поднял ведро и перелил молоко.
– Моисеевым-то, чего не оставил? – удивилась соседка.
– Дак они вчерашнее ещё не выпили. Катерина предупредила, что не надо им сегодня, – ответил старик, присаживаясь на свободную табуретку.
– От Серёжки есть что-нибудь?
– Откуда? Каким это ветром сюда что-нибудь принесёт, Николаевна? – горестно проворчал Семёныч. – Кабы почта рядом была, сходил бы, а так…
– А в леспромхоз? Не дойдёшь? Сам же знаешь, что нет у них почтальона.
– Так-то оно так, да боязно.
– Чего вдруг?
– А как не будет ничего?
– Ну, не будет, так не будет. Так что ли лучше?
– Так? – повторил Семёныч. – Так, Наташа, хоть надежда есть, а как придёшь, а там пусто, и надежды никакой не останется. Совсем туго станет.
– Странно, конечно, это всё, – произнесла учительница, бросая в молоко корки ржаного хлеба – творог будет готовить.
– Что тебе странно?
– Дак, знаю Серёжку с рождения, потому и странно.
– Да, уж, – согласился Семёныч. – Что стало с сыном? Из армии дак каждую неделю – хоть письмо, хоть открытка, а тут, как уехал, только первый год писал, а потом, как отрезало – больше семи лет ни одной весточки, одни переводы…. Чего только в голову не лезет! Слава Богу, хоть Венька нет-нет, да напишет, а то бы вообще не знал, что и подумать. Вроде и не обижал ничем, – задумчиво произнёс старик.
– А, если бы и обидел, так что, на всю жизнь что ли? – не согласилась Николаевна. – Даже думать об этом не хочу! Я, что, Серёжку, что ли, не знаю?
– Вот и я не приложу ума, что и думать, – грустно проговорил Семёныч. – Голова пухнет от этих мыслей. А мучает меня больше всего то, что Ира прямо перед смертью сказала.
– Что сказала? – остановилась Николаевна.
– За какие-то секунды, прежде чем отойти, глаза открыла, ш-и-р-о-к-о так, улыбнулась и говорит:
– Здесь Светик, Саша, говорит, и Сергунька здесь, не печалься. А до этого ведь, как инсульт ударил, и слова сказать не могла. Всё мычала что-то, да как разобрать? А тут чётко и, главное, радостно. Так с улыбкой и отошла. Мне бы так помереть! – мечтательно произнёс Семёныч.
– Как? – не поняла Николаевна.
– Радостно, – тихо сказал старик.
– Не думай ты об этом! Чего башку себе всякими глупостям забивать?
– Да я о словах Иркиных думаю! Что она имела в виду, как считаешь?
– Да, кто ж его знает? О смерти тебе ни один самый умный учёный ничего толком сказать не сможет. Одни предположения, да теории. Да цена этим теориям – полушка в базарный день. Нет у меня к ним никакого доверия, Саша. Абсолютно! И в отношении последних слов Иры то же самое. Что хочешь можно предположить. Может видения какие были, а может воспоминания, а может бредила. Всякое может быть.
– Вот и я о том же, – согласился Семёныч, – всякое. Потому и не даёт покоя. Натворил может чего? – продолжил старик. – Чего в жизни не бывает? Шофёр ведь! Может в аварию попал, или сбил кого насмерть, и в тюрьму посадили? А сообщить стыдно.
– На столько-то лет? – вскинулась соседка. – Не верю! Не такой Сегруня, чтобы руки опускать. Помнишь, я в Псково-Печерский монастырь ездила?
– Ну, как не помнить!
– Так вот. Удалось мне встретиться там со старцем, схимонахом Давмонтом. Очередь выстояла, чуть не целый день. Пришла и давай плакаться: «За что мне судьба такая? Да чем же я Бога прогневила? Ни мужика, ни детей! Всё одна, да одна!», а он, слабенький уже такой, потом узнала, что через неделю после моего отъезда преставился, светится весь светом каким-то неземным, улыбнулся и тихонько так говорит: «Не наше это дело, сестра, на промысел Божий сетовать. Грех это! А ещё больший грех – уныние. Я тебе одно слово скажу, а ты над ним хорошенько подумай! Всё в этой жизни может случиться. Всё! Даже свет, и тот падает! Но зачем? Затем, чтобы что-то новое родилось! Понимаешь?», перекрестил трижды и замолчал. Я это теперь никогда не забываю, а уныние, как рукой, сняло. Это ж надо такое сказать: «Даже свет, и тот падает!». Вот и тебе не стоит унывать. Сберкнижка поди от денег распухла. Возьми, да съезди в гости. Всё и узнаешь! Тебя кто здесь держит?
– В гости? – испуганно встрепенулся старик. – А Зорьку на кого оставлю?
– Да, брось ты отговорки придумывать! Нешто мы с Катериной не сладим с нашей любимицей? Иль сомневаешься?
– Да, нет, Наташа, не сомневаюсь, – задумчиво произнёс Семёныч. – В себе сомневаюсь. Доеду ли?
– Чего вдруг? Заблудиться боишься?
– Помереть по дороге боюсь, Наташа.
– Сдурел, что ли? Не болел, не болел, а тут сразу помирать собрался, – попыталась пошутить соседка.
– Да почему ж не болел? Всё время болел. Не говорил только никому.
– Почему?
– А зачем? Врачей среди вас – одни справочники, так чего бестолку болтать?
– Я Катерине накажу, чтоб на почту заехали, да узнали. У нас сыра собралось уже килограмм сорок, – сменила разговор Николаевна. – Надо на рынок ехать, а не то весна на носу, а мы и не чешемся. Ты бы подумал, что прикупить надо, чтоб не мотаться туда-сюда. За сто километров по нашему бездорожью за каждой мелочью не наездишься.
– Подумаю, – согласился Семёныч, встал и пошёл домой.
– А что самому-то не съездить? – остановила Николаевна.
– Куда? – не понял старик.
– В район! Когда последний раз на людях был?
– На что мне они, люди-то? Кабы знакомые какие были, тогда бы куда ни шло. А так…, попусту время убивать, да потроха порастрясти? Месяц потом в кучу собирать будешь! – отмахнулся Семёныч.
– Ну, смотри сам. Хозяин-барин. Было бы предложено…, – не стала настаивать соседка, и Семёныч вышел из дома.
Глава 2
Выйдя со двора, постоял какое-то время, горестно осматривая пустую безлюдную улицу, тяжело вздохнул и поковылял домой. А как же здесь не вздыхать? Память! Куда от неё деться? И глаза закрывать не надо, чтобы всплыли картины деревенской суеты – ребятня на улице, нет-нет, да и машина какая пропылит, а уж велосипеды, так почитай в каждом дворе были. Всегда где-то кто-то стучал, что-то пилил, где-то горланил петух, где-то лай собачий, разговоры то близкие, то еле слышные. Жизнь. А тут пришла чума – перестройка называется, и вымерла деревня. Семёныч-то понял, почему вымерла, да разве от этого легче? Бактерию с Запада завезли, потому всё и случилось. Новую религию – демократия называется. А то, что демократия та напичкана наркотиками – свободой, да деньгами, как-то и не заметили. Может по дурости, может по наивности, а может и нарочно, поди разберись теперь. И поверили вдруг все, что без денег и жизнь не жизнь, а пустое прозябание. И как-то уж больно быстро всё это случилось. Не успели опомниться, а страну уже и ограбили, и производство угробили, и люди вдруг в нищете оказались, и сорвали с насиженных обжитых мест миллионы людей, и подались те, ставшие вдруг в одночасье несчастными, в поисках нового счастья – денег. И весь смысл жизни теперь в одном – в поиске этого наркотика. И чем больше, тем лучше. А за него можно и предать, и украсть, и убить. И любовь теперь стала случкой, и дружба только по расчёту, и честность оказалась недостатком. И не просто недостатком, а недостатком ума. О недостатке совести вообще перестали вспоминать. Вся жизнь измаралась, изломалась и исковеркалась. Всё, как у наркоманов. Один в один! Так и у них случилось. Поразъехались все кто куда, и остались в деревне одни богачи – четверо пенсионеров. Только у них единственных был хоть и небольшой, но гарантированный, доход. Стариков-то, конечно, больше было, но остальных дети в город переманили, а эти остались. У каждого из них была своя причина, но так или иначе, а покидать своё жилище отказались наотрез.







