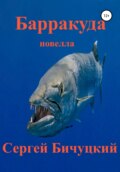Сергей Марксович Бичуцкий
Справедливость
Михаил Антонович редко посещал сына на работе. Пару раз, считай, за десять лет, да и то на минутку. Мимо когда проходил. И позавчера так сложилось. Гулял себе гулял, да и решил сына проведать. А то всё по телефону, да по телефону. Совсем видеться перестали.
Отца Антона Михайловича знали все (большая фотография в рабочем кабинете висела), поэтому охране даже в голову не пришло не только останавливать родителя, но даже и сообщать о его приходе секретарше. На этом Антоха и погорел. Открывает Михаил Антонович дверь в приёмную – никого. Заходит, понятное дело, без стука в кабинет, а там сынок, его гордость и надежда, массирует секретарше всякие выпуклые привлекательные места, а та делает вид, что недотрога, и будто бы сопротивляется. Стоят у стены и беззастенчиво, выпав в другую реальность, возятся-елозят, сопят, мычат, да слюнявят друг друга. Наслаждаться этим позорищем Михаил Антонович почему-то не захотел, покряхтел для порядка, кашлянул, чтобы услышали, но, поскольку увлечённая взаимопроникновением парочка никак не отреагировала, тихо эдак, немного с ехидцей, вопрошает:
– Работаем?
Всего один невинный вопрос, а как хлыстом по слюнявым рожам, да бесстыжим задницам. Как кипятком ошпарили. Такой антагонизм между ними вдруг разразился, любо-дорого! Армагеддон настоящий! Словно с рождения ненавидели друг друга, а то, что только что между ними было – это ни что иное, как борьба противоположностей. Морды раскраснелись! Пыхтят, как паровозы, отдышаться никак не могут! Глазами зыркают друг на друга! Ненавистью? Или страхом? Поди разберись! Скорее всего тем и другим! Как на войне, когда сойдутся враги в рукопашную, схватятся намертво, и «только смерть разлучит их». Вот такое хитросплетение тел, правды и лжи. Кто другой может быть и поверил бы всей этой внезапно возникшей фантасмагории, может даже и Великий Станиславский поверил бы, но только не Михаил Антонович. Уж кого-кого, а его-то на мякине не проведёшь! И сынок это прекрасно понимал! И секретарша, Катерина, понимала! Референт по-теперешнему. Понимать-то понимали, но никак не могли выйти из образа. Заклинило, что ли? От растерянности? От стыда? Ну, от стыда-то вряд ли. Был бы стыд, так и хитросплетения никакого бы не случилось. И вся тошнотность увиденного заключалась даже не в том, что, собственно говоря, случилось, а в том, что эта молодая симпатяшка была внучкой его давнишнего друга, и попала на работу к сыну по протекции самого Михаила Антоновича. Вот он, что ни наесть, казус белли! Во всей красе! То есть, получалось так, что именно Михаил Антонович и есть первоисточник этого непотребства. Не они сами – он, она и её родители, не все вместе, а только он один. И попробуй оправдайся! Кто её сюда привёл? Ты, старый остолоп? Кто такого сына воспитал? Опять-таки ты! Вот и держи ответ по всей, значит, строгости! Ну, в отношении сына ещё можно понять. Куда от этого денешься? То, что его разлюбезный раздолбай – кобелина, отец прекрасно знал. Именно по этой причине и расстался с первой женой. Гордая была! Хотела, наверное, как и все женщины, быть одной-единственной и неповторимой, да не случилось. Оскорбительно, конечно, потому и ушла от него! Чего уж тут! Так у них хоть детей не было! Не успели просто. Да и нынешняя, поди, давно бы ушла. Сама признавалась как-то в порыве откровенности. Кто ж такие выкрутасы долго терпеть сможет? А она вот, поди ты, терпела. И вовсе не из-за материального благополучия, хотя, конечно, исключать этот фактор было бы несправедливо, а из-за того, что оба сына, по какой-то неведомой причине, в отце, что называется, души не чаяли, хотя он ими практически не занимался. Раз в месяц выберется с ребятнёй куда-нибудь на прогулку, или на рыбалку, и то хорошо, а потом и не до них. Одно название отец! Папашка, скорее, но сыновьям и этого довольно было. И до следующего раза хранили они, как зеницу ока, память об этих походах, и мать, поскольку всегда ездили без неё, по какой-то причине в эти воспоминания не допускали. Не женское это дело!
Ну, ладно сын! А Катерина? Он её что ли воспитывал? Ну, уж нет! «Не на того напали! – мысленно взъярился Михаил Антонович. Хотел было разразиться обвинительной тирадой, но вместо этого стал бледнеть, хватать ртом воздух, покачиваться и оседать на пол. Сердце! Не успей Антон подхватить отца, так бы и грохнулся наземь. Оттащил на диван, уложил, вызвал скорую. Врачи примчались, будто в приёмной дожидались. Сделали укол, предложили госпитализацию, но, получив категорический отказ больного, также быстро исчезли. И за всей этой медицинской суматохой, как за ширмой, спряталось дрожащее неминуемое позорище главных действующих лиц нашего повествования, ибо голос у Михаила Антоновича был подобен иерихонской трубе, а сам его обладатель кривду обличал, невзирая на лица, время и место, всегда и везде, и, потеряв самообладание, контролировать децибелы не мог. При этом попранное самолюбие обличаемых записного правдолюбца в счёт не принималось вообще. Раньше надо было думать! Когда пакостить собирались! В связи с этим его мнение по какому-либо вопросу обычно узнавали не только те, на кого был обращён праведный гнев, но и множество не имевших к этому никакого отношения. А тут – приступ, и знаменитая труба вместо зычного гласа перешла на еле различимый хрип, будто прошёл дождик и она мгновенно покрылась толстым слоем ржавчины.
Глава 2
Понимая, какой опасности избежал, Антон не стал дожидаться, когда отец окончательно придёт в себя, вызвал водителя и охранников, препроводил родителя к личному лимузину, загрузил и отправил домой, пообещав вечером навестить. Вот с этого разговора и началось наше повествование.
– Меня больше всего беспокоишь даже не ты и твои похождения, – задумчиво продолжил отец, – а внуки! Какой пример показываешь? Помру, ведь, скоро.
– Не драматизируй, пап! Ты у нас ещё ого-го! – фальшиво-бодренько улыбнулся Антон, но отец тут же пресёк:
– Прекрати молоть чепуху! Ого-го! – передразнил сына. – Тебе бы такое ого-го, давно б твои работники по пятьдесят копеек на венок собирали!
– Почему по пятьдесят? – не понял сын.
– А большего не заслуживаешь! – пригвоздил отец.
«Да-а-а! – подумал Антон. Попробовал бы кто-нибудь другой разговаривать со мной таким тоном! И чего терплю?» – возмутилось самолюбие, но тот самый полузабытый детский страх выскочил тут же, как чёрт из табакерки, хряпнул самолюбие по башке, и бунт был подавлен, что называется, в зародыше.
– Да-а-а, сынок! – после некоторой паузы проворчал отец. – И когда же ты образумишься?
– Не преувеличивай, папа! Ничего страшного! – ухмыльнулся Антон. – О себе лучше подумай! Может тебе на курорт куда-нибудь махнуть? И сердце подлечишь, и отдохнёшь? – попробовал увести разговор в сторону.
– На что оно мне, здоровье-то? На твои похождения смотреть? Тобой гордиться, да похваляться? Вот он у меня какой замечательный сынок! И домов понастроил, и девок попортил не меньше! Смотрите люди добрые! Позорище сраное, – горестно воскликнул Михаил Антонович. – Иди, уже! Дома, небось, заждались.
– Наверно, – с облегчением выдохнул сын, и добавил, – Жене скажу, чтобы завтра навестила с внуками.
– А сам чего? – с подозрением спросил отец.
– Послезавтра в загранкомандировку. Недельки на две. Подготовиться надо.
– Чего так долго?
– Много вопросов решить надо.
– И Катьку с собой берёшь?
– Как же без неё? Три языка всё-таки! На пальцах мне с иностранцами объясняться?
– Ясно никак! Как же не совместить полезное с приятным? Кто ж от такого откажется?
– Да, не выдумывай ты, пап!
– Эх, сынок, сынок! – ещё более горестно вздохнул отец. – Чем я тебя породил, от того ты и погибнешь! Нет в тебе любви, Антоха! Моя промашка! От того и горюю. И не стоит мне врать. А уж себе тем более. Если нет любви в тебе, то не будет её и в сыновьях.
– Ладно, пап! Пойду я.
– Да иди уже, – кивнул отец, устало закрыл глаза и повернулся к стене.
Следующий день прошёл как обычно. Антон занимался повседневными делами, но был задумчив и подчёркнуто холоден по отношению не только ко всем окружающим, но и к помощнице. Не балагурил, когда оставались наедине, не наблюдал сладострастно за её привлекательными формами, и не распускал руки, чтобы убедиться, что формы эти ему не снятся. Билеты в «командировку» были куплены неделю назад. На Бали. С кем и о чём собирался договариваться в тех далёких краях кроме него не знал никто, даже Катерина, а цели его были просты и незатейливы. Несмотря на то, что у секретарши-референта был официальный жених, хотел наш герой насладиться её прелестями во всей полноте, а там уж пусть себе выходит замуж. И препятствовать, понятное дело, этому браку не собирался. Барское такое решение, как когда-то у помещиков и крепостных. Право первой ночи должно принадлежать барину! Закон жизни! Всё можно было бы устроить и попроще, но глаз-то вокруг… – шагу не ступить. Потому и решил уехать подальше. Меньше пересудов.
Тем временем жена заботливо укладывала чемоданы, не доверяя это дело мужу. Знала, что обязательно что-нибудь забудет, и потом будет её попрекать. Не раз уже было, потому и не доверяла. В повседневных заботах и её день пролетел незаметно, и только далеко за полдень собралась вместе с внуками навестить больного.
Заперев кабинет, Антон холодно попрощался с помощницей, отпустил водителя и сел за руль. Настроение почему-то было ужасное. От вчерашнего разговора с отцом? Да, вряд ли! К таким беседам давно привык, и не обращал на них внимания. Ну, а что тогда? Не знал и мучался. Что-то угнетало. Незримое, тягуче-навязчивое, и на первый взгляд беспричинное. Бывает такое порой – накатит вдруг тоска-печаль – весь свет не мил. И видимых причин не было, поскольку в бизнесе никаких проблем не было и не предвиделось. А бизнес для него и был жизнью. Всё остальное – как придаток. Для заместителей причину поездки объяснил очень правдоподобно – надо развивать компанию и выходить на международный рынок, и на Бали едет на разведку. Так что всё вроде бы в порядке, но было почему-то неспокойно. А вчерашний разговор с отцом вылетел из головы сразу, как только закрыл родительскую дверь. Первый раз, что ли? Перечить-то не перечил, но и внимания на эти охи-вздохи никакого не обращал. Старики! Что с них взять? По статусу положено морали читать. Да кто ж их слушает?
Дом родителей находился немного в низине, и был прекрасно виден с дороги, по которой Антон мог бы ежедневно возвращаться дом, но он интуитивно выбирал другой путь, чтобы нельзя было себя укорить в том, что каждый день ездит мимо, а к отцу заглядывает не чаще двух раз в месяц.
Сегодня Антон водителя отпустил и сам сел за руль. Задумчивость привела к тому, что поехал по кратчайшему пути. Подъезжая к дому родителей, боковым зрением увидел возле их подъезда скорую помощь и толпившихся рядом людей. Ёкнуло сердце. Отец! Резко остановил машину, и вместо того, чтобы подъехать к дому, стал напряжённо наблюдать за происходящим. Через несколько минут увидел санитаров, выносящих из подъезда носилки с лежащим на них чёрным полиэтиленовым пакетом, в который обычно упаковывают умерших людей. Через минуту вышла жена с детьми. Она плакала, и у Антона не осталось сомнений – отец! Что-то бездонно-пустотное и безжалостное вырвало его из действительности и погрузило в какое-то забытьё. То, что родители не вечны, понимал, но не ожидал, насколько будет тяжела реакция его души. Всё внутри клокотало, одновременно сжималось и рвалось наружу.
Сколько времени провёл в таком состоянии, не знал. Наконец, оторвав голову от руля и посмотрел в сторону дома. Там уже никого не было – ни скорой помощи, ни людей. Мельком взглянул на часы – половина десятого вечера. Завёл двигатель и тронулся с места. По дороге домой посетил супермаркет и купил бутылку армянского. Заехав в автоматически открывавшиеся ворота, остановился перед парадной лестницей большого двухэтажного коттеджа. Домой идти не хотелось. Открыл бутылку, налил полный одноразовый стаканчик, мысленно помянул отца и одним махом опрокинул в рот. Закусывать не стал. Не положено. Алкоголь медленно растекался по организму, унимая душевную боль, и непроизвольно стали всплывать воспоминания – и детские, и все остальные. И баня тоже вспомнилась. Куда ж без неё? Вот только обиды, которая не покидала всю жизнь, почему-то не было. Испарилась, наверное, давным-давно, а он и не заметил. А может и только что. Вспоминал нравоучения, редкие споры, и невольно удивлялся тому влиянию, которое оказывали на него слова отца. Вроде бы и не спорил с ним никогда, но в душе-то не соглашался. Не соглашался, а всё равно, в конечном счёте, почти во всех случаях поступал так, как наставлял отец. Почему так?