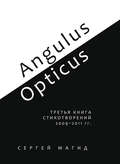Сергей Магид
О состояниях сознания. Опыт историософии русской жизни
Ощущение всеобщей родственности и принуждение к всеобщей родственности это норма русского этнического менталитета, возникшая, в том числе, и в результате все той же не-завершенности революции «табу на инцест» (а также по ряду других причин).
А вот этносы, входящие во время обеих мировых войн в Британское Содружество Наций, даже несмотря на то, что говорили они почти на одном языке, хотя и со значительными диалектными особенностями, т. е. британцы, американцы, канадцы, австралийцы, новозеландцы, южноафриканцы… – никогда «братскими» народами себя не считали.
Хотя уж они-то, действительно, родились, можно сказать, «на наших глазах» и происходят от одного, хорошо всем известного «отца» – англичанина.
Только все дело в том, что этот их общий «отец» давным-давно и полностью завершил революцию «табу на инцест» и никакой патологической привязанности к своим «детям» никогда не ощущал (как, впрочем, и они к нему), никогда не говорил о «братской семье британских народов», а когда приходило время, давал своим «детям» полную свободу выбора, хотя порой и скрипя зубами, как, скажем, во время Американской войны за независимость или во время англо-бурской войны.
Но в итоге всегда смирялся с реальностью. «Дети» англичанина тоже друг друга «братьями» никогда не считали, а если и оставались в союзе с «отцом», то только на равной основе и по доброй воле.
Русский же «старший брат» с реальностью смириться не в состоянии, он до сего дня все еще не может, не обидевшись, отпустить на волю «младшего брата».
А поскольку речь идет об инцестуозных привязанностях, отказаться от которых очень трудно (необходимо долгое и интенсивное лечение либерализмом в умеренных дозах и социальной демократией по полной программе), то в ход пускаются самые дикие обвинения и, в первую очередь, конечно, обвинение в предательстве нашей общей матери-Киевской Руси и в переходе на сторону давнего врага, на сторону «латинян».
Естественно, там где первобытная психология всеплеменного «братства», там и «семейные» драмы, измены, отступничества, плевки в душу.
По разным причинам всё большее количество народов отказывается от «братства» с русскими (кажется, к сегодняшнему дню [2017 г., апрель] «братьями» остались, и то в силу корыстного интереса, только сербы).
Давно предали русских поляки-католики, отказавшиеся от славянской взаимности в угоду Ватикану, потом изменники-чехи в 1968 г., и, наконец, верх «мазепинщины» – украинцы, посмевшие заявить, что они в семье народов мира сами по себе и никаких «братьев», особенно «старших», никогда не имели, не имеют и иметь не хотят.
Русский этнический менталитет не в состоянии воспринять эту мысль.
Однако вовсе не потому, что он «злой», «империалистический» или «глупый», а потому что, не пройдя полностью революцию «табу на инцест», он до сих пор страдает сильнейшим синдромом не подавленных, несоциализированных, обостренных инцестуозных инстинктов.
Этот редкий уже в наши дни в цивилизованном мире болезненный комплекс чувств и переживаний Эрих Фромм назвал в свое время «инцестуозным симбиозом».
Расширяя и интерпретируя значение фроммовского термина, можно сказать, что «инцестуозный симбиоз» это не контролируемая разумом, глубинная, животная привязанность к Матери/Отцу/Братьям, представленным самыми разнообразными институциональными заместителями, – клановой семьей, родом, нацией, расой, политической партией, Родиной, Пушкиным, Ахматовой, адмиралом Колчаком, футбольным клубом, «бригадой», «десантурой» и чем угодно еще.
Главной характеристикой этих «инцестуозных» отношений, характерных для русского этнического менталитета, является внутренняя неотъемлемость и нераздельность субъекта, который без остатка растворяется в объекте своей привязанности, и объекта, который без остатка поглощает отдающегося ему субъекта.
Иными словами, эти подсознательно «инцестуозные» отношения без катастрофических последствий мгновенно разорвать невозможно, т. к. человек (как и его этнос) уже не в состоянии без них жить.
* * *
Отсюда же, из этого ящика Пандоры неподавленных «инцестуозных» отношений с реальностью в результате не-до-совершенности революции среднего палеолита «табу на инцест», является на свет и такое широко известное историческое и психологическое явление как знаменитая русская эмигрантская ностальгия – тоска по Родине.
Конечно, в той или иной степени это чувство присутствует у всех людей, вынужденных жить на чужбине, но, кажется, только в русском этническом менталитете чувство ностальгии так безмерно и исполнено такого бесконечного отчаяния.
В основе чувства ностальгии лежит глубочайший «инцестуозный симбиоз» – священная, постоянная, кровосмесительная (и потому извращенная) связь русского этнического менталитета с Матерью-Родиной.
Конечно, у всех народов есть свои «фатерлянды» и «хоумленды», но инцестуозное, т. е. патологическое отношение к ним, исключено в среде современных этнических менталитетов, и только в русском – все по той же причине незавершенности революции «табу на инцест» – отношение к стране рождения является совершенно ненормальным, причем эта явная девиация еще и насаждается властными структурами в целях укрепления у населения чувства патриотизма, – в государстве, которое, с одной стороны, воспринимается как мать и отец в одном лице, а, с другой стороны, – как осажденная крепость.
Фромм полагал, что причина сильной эмоциональной привязанности к матери, в том числе и к Матери-Родине, коренится в глубочайшем, давно запущенном неврозе, и сама есть первейший симптом этого невроза.
Этос Матери-Родины и связанной с нею жертвы не сейчас родился.
Он вполне традиционен, лишь ранее он занимал третье место в иерархии официальных русских ценностей: сначала следовало умереть «за Бога!», потом «за Царя!» и только в конце «за Отечество!».
Затем Бог был отменен, царь убит, и умирать осталось только «За нашу советскую Родину!».
В мире же криминализированном эта триада Матери, Родины и Жертвы, ей принесенной, выражена, как всегда, в точной и афористической формуле-татуировке: «Родина-Мать-Могила».
В лексику «этоса Родины» всегда входили самые высокие, самые торжественные слова русского языка: честь, верность, долг, победа, удаль, порыв, чудо-богатыри, волга-русская-река, она же не-москва-ль-за-нами и т. п. и т. д.
Словами этими бросались направо и налево, начиная с Суворова и кончая Деникиным, пока они совершенно не обесценились и не потеряли всякий смысл.
Нельзя теперь без горечи и сострадания читать речи, приказы и воспоминания, скажем, участников «белого движения».
Невозможно поверить, что всё это говорилось и думалось всерьез и вполне взрослыми мужчинами.
Буйный «инцестуозный симбиоз» правит здесь бал, демонстрируя, насколько архаичным было сознание представителей офицерского корпуса Российской Императорской армии, от юнкера до генерала.
Отождествив себя и своих товарищей с последними защитниками и спасителями девственной Святой Руси в борьбе с насильником-Антихристом, этот слой носителей русского этнического менталитета честно жертвовал собой на поле боя.
Во имя чего?
Во имя того, чтобы Святая Русь осталась неоскверненной и непоруганной.
Кем?
Инородцами и иудобольшевиками, захватившими власть в Петрограде и Москве.
Только чистые белые души имело право на интимную связь с этнической Родиной.
Все остальные рассматривались как насильники, пришедшие со стороны и не имевшие на сожительство с Русью никакого права.
Велика была армия женихов России, но не было в ней ни зрелости ума, ни трезвости, одна похоть очей, похоть гордыни.
* * *
В наше время пафос ушел, лексика изменилась, исчезли и Святая Русь и Антихрист, и даже иудобольшевики.
«Остались», как писал Хэмингуэй, «только номера полков и названия населенных пунктов».
Война ушла в компьютерный жаргон.
«Убиенные рабы Божии» и «отдавшие жизнь за коммунистическое будущее» превратились в «груз 200».
Так короче и без эмоций.
Но это отнюдь не означает, что исчез «этос Родины».
Наоборот, он стал неотъемлемой частью «коллективного бессознательного», перестав быть только пропагандой сверху, но став искренним невербальным переживанием снизу.
Любовь к матери-России стала «строгой», «мужской», «затаенной», ненависть к ее многочисленным врагам брутальной и беспощадной.
Инцестуозные отношения с Родиной не имеют теперь ничего общего с истерикой и кликушеством священников или политруков, – теперь это привилегия молчаливых мачо, образ которых размножается государственными СМИ, мачо, для которых убийство во имя любви к России, т. е. защиты матери-Родины от кого угодно какими угодно способами, стало рутинной профессией.
России, действительно, удалось вырастить своего нового человека: им стал высокопрофессиональный убийца.
Снайпер, десантник, спецназовец, зеленый человечек без опознавательных знаков.
Это в его честь играют оркестры на Красной площади боевые марши, в его честь устраиваются военные оргии между Кремлем и Мавзолеем, это ему посвящены бесчисленные телесериалы, это на него теперь вся надежда в гибридных войнах, это он – современный герой непрерывно длящегося инцестуозного акта между русским этническим менталитетом и его Матерью-Родиной.
* * *
Теперь, как никогда, вакханалия испуганного, судорожно лягающегося во все стороны русского милитаризма создает у непредвзятого наблюдателя впечатление, что речь и впрямь идет о защите сыновьями своей любимой матери от неустанных и наглых посягательств на ее женскую честь и человеческое достоинство.
Случай уникальный в современном мире и явно патологический, – учитывая, что на честь и свободу Родины в реальной (а не виртуальной) жизни никто не покушается, никто не собирается нападать на Россию, разваливать Россию, ликвидировать Россию…
Откуда этот страх?
Русский страх, это острое чувство осажденной крепости и героического противостояния всему миру, объединившемуся в неустанном поползновении изнасиловать нашу Родину-Мать, уходит корнями глубоко в историю России, в историю русского сознания.
Чувство осажденной крепости есть традиционный стереотип восприятия мира, укорененный в кочевническом менталитете.
Пастбища кочевого племени не знают стен, укрепленных городов, оборонительных позиций, – они всегда открыты для набега, для угона скота соседним племенем, для разорения временного кочевого стойбища всевозможными и многочисленными врагами.
У племени с кочевническим менталитетом враги – все, весь мир – враг.
Всё в этом мире потенциально угрожает нашим отарам, нашим табунам, нашим травам, в итоге – нашему существованию.
Поэтому кочевники живут с опаской, в постоянной готовности к отпору и, соответственно, к ответному набегу, живут в страхе, которому они могут противопоставить либо постоянное бегство, либо создание поглощающей всех своих потенциальных противников Единой Поднебесной до последнего моря[9].
Русский этнический менталитет тоже давно нашел этому страху противодействие.
Формулу этого противодействия произнес император Александр III: «У Российской империи нет других союзников, кроме ее армии и ее флота».
Эта прямо кочевническая формулировка признаёт гибельную открытость наших пастбищ (границ) для любого завоевателя, – отсюда все эти жалостливые русские мифы о страдалице-Руси, которую кто только не хотел завоевать и у которой нет и не может быть друзей, зато всегда есть миллионы солдат, готовых освобождать кого угодно.
Но судьбы всех европейских этносов (испанского, французского, немецкого, польского, литовского, чешского, венгерского, сербского, болгарского, финского и других) трагичны, история их есть история страданий, захватов, разорений, многоразовой гибели (от рук ли арабов, турок, католиков, протестантов, викингов, друг друга или тех же русских), – но и преодоления этих страданий.
Что касается формулы царя Александра III, то это формула не просто вредного, но прямо гибельного для России изоляционизма.
Русская армия не стала союзником России.
Она стала гигантской коростой, взращённой неврозами русского этнического менталитета на коже собственной страны, не дающей ей свободно дышать.
А русский страх все равно здесь.
Он никуда не делся.
* * *
Борьба со страхом состоит не в создании распухшей и неповоротливой армии людей, в большинстве своем, с непреодоленным инцестуозным сознанием, а в довершении революции «табу на инцест», начавшейся в среднем палеолите.
Нормальное становление человека и его этноса предполагает обрыв метафизических инцестуозных связей и обретение свободы.
Это очень нелегкий и чрезвычайно растянутый во времени поступок.
Однако Эволюция человека как вида идет в направлении от инцеста к свободе, и именно этот эволюционный код лежит в основе возникновения табу на инцест.
Таков истинный универсальный смысл «Революции 1» среднего палеолита.
Русский этнический менталитет эту революцию все еще не завершил, поэтому каменный век в русском сознании все еще не закончился.
* * *
В русском этническом менталитете все еще царят, с одной стороны, инцестуозное восприятие харизматических авторитетов («Сталин-Отец») и сакральных символов («Родина-Мать»), и, с другой стороны, промискуитетное (здесь: репрессивно-сексуальное) отношение ко всему, что (ко всем, кто) не символ и не авторитет.
В качестве первого попавшегося примера можно взять маршала Жукова, – схема сядет заподлицо: добровольный инцест в отношениях с Отцом-Хозяином, репрессивный, насильственный промискуитет по отношению к детям-солдатам.
К миллионам собственных солдат.
Всех их Жуков имел.
Зато Хозяину (фаллосу-тотему) регулярно подставлял то, что требовалось подставить.
«Маршал Победы» Георгий Константинович Жуков есть прозрачнейший образец, есть учебный пример русского этнического менталитета, являющегося во всей своей невинной чистоте менталитетом человека эпохи каменного века.
Человека с каменным топором.
В сознании этого героя эпохи неолита человеческая жизнь сама по себе не стоит ничего.
Она ценна только как составная и неотъемлемая молекула племени.
Скажем, при охоте на немецкого мамонта.
Как молекулу племени ее и надо использовать.
«Иначе она – к чему?» думает Жуков (Суворов, Брусилов, Конев, Еременко, Грачев[10]…) и посылает своих деток на минное поле – разминировать его собственными телами.
Революция 2: «фаллический культ»
В верхнем палеолите на смену промискуитетному стаду приходит родовая матриархальная община, родство ведётся по женской линии.
Начинается гинекократия.
На этом этапе половой признак особи доминирующего пола становится сакральным.
Об этом нам говорит, к примеру, такой поздний артефакт как «шила-на-гиг» – с ирландского: «Шейла-на-корточках».
Шила-на-гиг (англ. Sheela na Gig) – скульптурные изображения обнажённых женщин, демонстрирующих ктеис (древнегреч., ж. род, – женский половой орган), которую они растягивают обеими руками, сидя на корточках.
Наибольшее количество Шила-на-гиг находится в Ирландии и Британии, но встречаются они и в Чехии, в бывшей стране бойев, что говорит скорее всего о кельтском происхождении этого образа.
Амулеты в виде фигурки Шила-на-гиг использовалась в качестве защиты против злых духов.
Ведь функции фаллоса и ктеис как половых органов состоят в том, чтобы давать жизнь.
Стало быть амулеты с изображением как фаллоса, так и ктеис символически противостояли смерти и энтропии.
Сам артефакт Шила-на-гиг довольно позднего происхождения.
В Ирландии фигуры Шила-на-гиг создавались с IX по XVI век.
Они считались оберегами против порчи и сглаза.
Однако сам этот образ очень реалистически передавал способ мышления человека эпохи матриархата, когда женщина, а конкретно – ее ктеис, считалась дарительницей и созидательницей жизни, ее причиной и источником.
* * *
«Революция 2» на смену ктеис как символу гинекократии в среднем палеолите принесла фаллический культ – посвящённый порождающей силе жизни, символически представленной в виде фаллоса (мужского полового органа) или извержения его семени.
Это был настоящий революционный переворот в сознании первобытного человека.
Он понял (мы не знаем – как, и не осмеливаемся гадать), что источник жизни находится в мужчине, точнее, в его фаллосе, точнее – в его семени.
Вот открытие кроманьонца и суть «Революции 2»: оказывается, Фаллос – Источник жизни. Не Ктеис.
* * *
Символом перемены доминирующего пола с признака «ктеис» на признак «фаллос» является древнейшее и дошедшее до наших дней заклятие: «job tvoju mat'».
Выражение это можно отнести к очень давнему периоду; конец эры гинекократии и складывание эры патриархата.
Значение его в ту пору было «отнюдь не похабным, а скорее имущественным. Обладающий матерью рода становился хозяином рода. Поэтому древнее значение выражения ["я"] "job tvoju mat'" необходимо было понимать как "я твой отец!" или "я мог быть твоим отцом!"» (Д.К. Зеленин, 1930 г.).
* * *
В эпоху смены доминирующего пола с женского на мужской, возникают, естественно и культы обожествленной мужской силы – фаллические культы.
У первобытных племён следы фаллического культа встречаются в самых различных местах и в самых различных формах.
Генезис фаллического культа лежит в представлении первобытного человека о том, что все органы человеческого тела являются самостоятельными существами.
В том числе и особенно, в силу глубокой таинственности процесса оплодотворения, такими самостоятельными и всесильными существами считались половые органы человека.
Отсюда пошло и сказочное представление о фаллосе как об индивиде, могущем существовать даже и совсем отдельно от человека и проявлять в таком состоянии свои чудотворные способности.
Такое представление издревле утвердилось в проторусском, а затем в русском этническом менталитете.
В связи с этим, кстати, можно предположить, что знаменитая повесть Гоголя «Нос» должна была бы называться совсем другим словом, и главным героем, расхаживающим по Невскому проспекту, должен был бы быть совсем другой компонент мужского тела.
Возможно, Гоголь именно так все и задумал; возможно, подтекст его рассказа был совершенно прозрачен для современников.
Во всяком случае, такой главный герой гораздо лучше укладывался бы в стереотип русского мышления.
Так же как вера в спасительную силу Шила-на-гиг у кельтов, так же и вера в спасительную силу фаллоса вошла во множество этнических культур.
Дожила она и до времен античности.
В культурах почти всех этносов, входивших сначала в эллинский, а потом и в римский миры, разумелось само собой, что амулеты в виде фаллосов обладают чудодейственной силой, – отгоняют демонов и рассеивают злые заклятия и наговоры.
В Pax Romana такой амулет каждый мальчик вплоть до подросткового возраста носил на шее (сначала фаллос, через несколько веков – нательный крестик! Этому ниже будет дано объяснение).
Фаллические скульптурки вешались над входами в дома и комнаты, выставлялись во дворах, садах и на полях для их охраны от нечистых сил.
У проторусских и русских одним из самых древних и простых фаллических оберегов служил «кукиш».
«Кукиш» был прямым знаковым (невербальным) отображением фаллоса.
Фаллос же считался источником жизни и отгонял демонов и духов смерти да и просто предохранял от дурного глаза.
Страной фаллического культа, сохранившегося до настоящего времени, но духовно преобразованного, является Япония.
В космогонии японской национальной религии синто даже сами острова японского архипелага представляют собой не что иное, как гигантские фаллосы.
Реальные изображения фаллосов и ктеис стоят в Японии вдоль сельских дорог.
Символ фаллоса гриб и символ ктеис персик – служат объектами жертвоприношений в японском фаллическом культе.
Этой трепетной и хрупкой религиозной обрядностью и упорядоченностью в национальном духовном бытии фаллический культ в Японии был избавлен от вульгарных натуралистических ассоциаций и, как это ни парадоксально, стал частью японского модуса Цивилизации.
* * *
Иной страной фаллического культа можно считать Россию.
Но русский фаллический культ отличается от японского, как «решка» от «орла», хотя это и две стороны одной и той же монеты.
Фаллос в русском этническом сознании сохранился не как символ священного источника жизни, но наоборот, как символ насилия над жизнью.
В русском сознании фаллос существует совершенно самостоятельно и тотально доминирует над человеком.
Не только над отдельным человеком, но и над всем миром, над всей Вселенной.
Более того, в непреодоленных стереотипах сознания каменного века, которые в огромных ситуативных фрагментах присутствуют в русском этническом менталитете, фаллос стал онтологическим стержнем русского национального бытия.
В том числе, давно стал и остался – племенным тотемом.
Функция фаллоса-тотема проста и банальна: он делает именно то, что ему и положено делать по его физиологическому и метафизическому предназначению: он всех имеет.
Положение человека на Руси издревле и до наших дней можно поэтому охарактеризовать русской же гениальной поговоркой-наставлением: «Оглянись вокруг себя, не е. т ли кто тебя».
Радищев исполнил это наставление буквально: «Оглянулся я вокруг себя и душа моя страданиями уязвлена стала».
Отчего же?
Оттого, что увидел Радищев, как сильный имеет слабого, подлый благородного, идиот мудрого, безжалостный безответного…
Такая же судьба постигла и самого Радищева: великий русский тотем-фаллос в женском облике Екатерины II расправился с писателем таким же физиологическим способом, каким и всегда расправлялись русские тотемы-властители с населением России.
Екатерина «опустила» Радищева.
Это вновь всё тот же первобытный инцест без табу, в данном случае откровенно насильственные инцестуозные отношения отца (семейного большака, – в данном случае в лице императрицы) со своими детьми и недобровольные (в случае, скажем, Радищева и Новико́ва), а в подавляющем большинстве случае добровольные, инцестуозные отношения всех членов семьи со своим хозяином.
Царь (царица) – батюшка (матушка), все остальные – детки, которых батюшка и матушка инцестуозно имеют.
Это общепринятое домашнее насилие выражалось (и выражается до сего дня) в самых изощренных пытках, – наблюдать которые порой спускались в пыточный подвал тотемы (т. е., в «русском случае», – «всех имеющие») собственной персоной. Совсем своим и семейным делом были публичные порки крестьян обоего пола, волочения солдат сквозь строй шпицрутенов до последнего издыхания, а позднее – закономерные массовые расстрелы на разных полигонах и просто в лесах.
При этом фаллос-тотем обязан быть, согласно матрице русского этнического менталитета, не просто автократором, а тираном, и не просто тираном, а чудовищем тирании, монстром и терминатором.
Иначе власть его мгновенно рухнет.
Малейшая слабость фаллоса-тотема воспринималась (и воспринимается до сих пор) русским народным первобытным сознанием как его неподлинность.
Именно по этой причине очень часто в русской истории раздавался клич «А царь-то – ненастоящий!»
И затем начиналось ритуальное убийство тотема, потерявшего сакральную силу (в том числе и сексуальную, как в метафизическом, так и в буквальном смысле).
Причем не просто убийство, а всяческое рода глумление над физическим телом обманного тотема, вплоть до ритуального разрывания тела тотема на куски (как поступали первобытные толпища в России с Лжедмитрием, генералами Духониным и Корниловым, в Ливии с Каддафи и т. п.)
* * *
Историю жизни и смерти русских племенных вождей (обоего пола, ибо и женщина на русском троне автоматически становилась «фаллосом-тотемом») вполне можно рассматривать как практическое учебное приложение к исследованию антрополога Дж. Фрэзера «Золотая ветвь»[11].
Одним из важнейших компонентов сознания первобытного человека была, согласно открытию Фрэзера, вера в так называемого «короля-жреца», харизматического лидера, имевшего власть над природой и ее циклами, и вообще обладавшего сакральной силой, в том числе и сексуальной, которая держала племя в состоянии динамичного бытия и гарантировала ему чисто физическое выживание.
«Король-жрец» вызывал дождь, боролся с засухой, неурожаем, эпидемиологическими катастрофами, не говоря уже о его успешном водительстве в борьбе с соседними племенами.
«Король-жрец» имел все привилегии и преимущества, которые только возможны были в жизни первобытного человека, в том числе, конечно, и в сексуальной сфере.
Но все это продолжалось только до той поры, пока не становилось ясно, что сакральная сила «короля-жреца», в том числе, опять же и сексуальная, начинает иссякать.
Когда внутренний коллапс «короля-жреца» подтверждался рядом практических фактов – слишком долгим отсутствием дождя, поражениями в борьбе с соседями, бесплодием или явной импотенцией, – то несчастный, потерявший свою сакральную мощь, ритуально уничтожался за дальнейшей ненадобностью и в связи с общей бесполезностью, а его место немедленно занимал другой харизматик, молодой и перспективный.
Подобная жестокая судьба ждала практически каждого «короля-жреца», поскольку он был фигурой несменяемой и, доживая до преклонных лет, естественным образом терял элан, интуицию, силу внушения и силу оплодотворения.
«Короля-жреца», переставшего быть плодоносящим фаллосом племени, ритуально вешали на священном дереве, топили в священных водах рек и озер, а поскольку еще в недавнем прошлом это был все-таки «король-жрец», обладавший сакральной силой, и какие-то остатки этой силы еще безусловно оставались в его крови, в его сердце, в его печени, в его половых органах, то после ритуального умерщвления люди из ближайшего к «королю-жрецу» окружения делили его тело на части и торжественно поедали его, всасывая и впитывая в себя остатки его сакральной мощи.
Это первобытное «причастие» состояло не только в реальном поедании реального тела, но и в присвоении разнообразнейших личных вещей реально убиенного вождя, которые по поверьям так же должны содержать в себе элементы его, еще не до конца исчезнувшей, сакральной энергии.
* * *
Вся это первобытная история с «королем-жрецом», фаллосом-тотемом, чрезвычайно рельефно прослеживается в истории России вплоть до наших дней.
Не будем здесь спускаться в глубины неолитического прошлого, останемся в Новом времени.
Петр III был слаб и был убит, Павел I был слаб и был убит, Александр II, как только проявил слабость, был тут же убит, Николай II был архислаб и за это был архизверски убит вместе со всей семьей.
На таких же монстров и терминаторов, как Иван IV, Петр I, Николай I или Сталин, не покушался, кажется, никто никогда (если не принимать всерьез миф о финальном отравлении Кобы его же соратниками, таком же финальном (само?)отравлении Николая Павловича от горя в результате крымских поражений, и исключить попытку Софьи убрать братца Петра еще в ранней молодости как конкурента во власти).
Но особенно «образцово», просто как пример из учебника по антропологии, «выполнено» ритуальное умерщвление последнего русского императора.
Да, убийство царя Николая II, безусловно, было ритуальным, – чисто русским актом убийства.
Убийство это было хотя и жестоким, но почти безличным механическим действом, совершенным в силу древней традиции, согласно давнему магическому обряду.
Современность здесь присутствовала лишь относительно, – она лишь предложила свои конкретные исторические обстоятельства, свое время и свое место.
И еще современность выразилась в том, что ритуальная партиципация в совместном поедании трупа тотема приняла форму партиципации в совместном посмертном ограблении, как его самого, так и членов его семьи.
Причем присваивание различных ценностей, найденных на трупах и зашитых в их одежду, было даже не столько актом алчного обогащения, сколько именно присвоением части сакральной силы, которую должны были принести приобретателям вещи убиенных (включая и саму одежду, вплоть до нижнего белья!).
Однако сама матрица сознания, совершившего это убийство и это присваивание сакральных подштанников, находилась, конечно, вне современности.
Это была матрица неолита.
Совершенно иррелевантны были какие бы то ни было приказы и сиюминутные решения, телеграммы и указания из Кремля (если они, действительно, имели место, в чем мы глубоко сомневаемся), присутствие или отсутствие инициатив каких-нибудь случайных лениных или свердловых.
Последний русский царь был обречен: он был бы убит так или иначе, в Ипатьевском доме или в любом другом месте, в ночь на 17 июля 1918 г. или в любую другую ночь двух-трех ближайших лет, конкретными людьми из данной расстрельной команды или любыми другими, носящими солдатские шинели или крестьянские зипуны.
Царь был приговорен «народным обчеством».
Он погиб задолго до подлого расстрела в подвале.
Можно даже назвать вполне конкретную дату начала гибели царя…
Это вторник 1 ноября 1905 г., когда состоялась первая личная встреча Распутина с императором: «В 4 часа поехали на Сергиевку. Пили чай с Милицей и Станой [черногорскими княжнами-сестрами, ярыми сторонницами уничтожения Австрии; обе были женами Великих князей из династии Романовых. – С.М.]. Познакомились с человеком Божиим – Григорием из Тобольской губ.» (Дневник Николая II).
Понятно, что главной и вполне естественной причиной оставления Распутина при дворе была его небывалая сила суггестии, с помощью которой ему удавалось останавливать кровотечения у царевича Алексея, больного гемофилией.
Но для первобытного русского крестьянина этой причины не существовало.
Русский крестьянин, был ли он в зипуне, рабочей спецовке, матросском бушлате или солдатской шинели, видел в Распутине деревенского ведьмака и кобеля, который пробрался во дворец, чтобы дурить царя и еть царицу.
Военные поражения были вторичны.
Русский крестьянин с его доисторическим, догосударственным сознанием, ни малейшего понятия не имел, за что он воюет, во имя чего он воюет и порой даже, с кем он воюет.
Две онтологические опоры важны были для русского крестьянина, одет ли был этот крестьянин в новенькую с иголочки военную форму или донашивал еще дедовский тулуп, – первая: гарантированный урожай и пища для себя и скота на зиму, и вторая: единственный на фоне бесчисленных фаллосов-деструкторов (мелких бесов-чиновников, полицейских начальников, паразитов-помещиков, интеллигентов-дачников, офицеров-дворянчиков) фаллос-созидатель и всего держатель – царь-тотем.
И вот этот тотем оказался ненастоящим, опавшим, бессильным что-либо удержать.
Единственная реальная, инцестуозная, конечно, сила (с одной стороны, перворожденный сын и в то же время супруг вот этой матери-земли-Расеи, с другой стороны отец родной и батюшка своих деток, крестьян-христиан), царь Николай II предал всех.