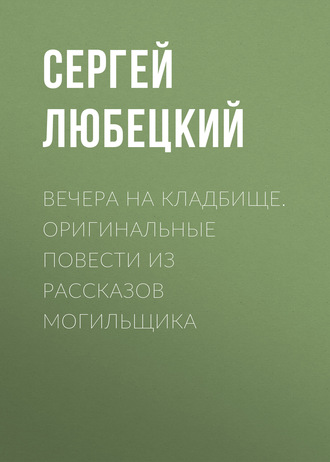
Сергей Любецкий
Вечера на кладбище. Оригинальные повести из рассказов могильщика
Такому-то насильному удовольствию предавался и Артемий вполне. В воображении его засветились до того неведомые ему желания – он пил, бушевал, раскатывался с гиком и смехом по всей Москве и, исступлённый, полудикий, вскрикивал: «Эх, везде солнце светит, любо жить на свете!», но слёзы невольно крапали на грудь его – и сердце судорожно сжималось под гнётом скрытой тоски своей. Так однажды катался он по просторному Замоскворечью с обольстителем своим до поздней ночи, и докатались они до того, что все трактиры заперли уже и не впускали их никуда. Артемий печальный, изнеможенный, задремал уже; вдруг сопутник его вскричал:
– Извозчик, стой, поворачивай правей, ишь какие огни светят вон у этого большого дома! Подъезжай туда скорей, это должно быть трактир!
Артемий встрепенулся, сани подкатились под освещеные окна – он вглядывается – и что ж бы вы думали? Четыре местные церковные свечи в высоких посеребренных подсвечниках, обвитые чёрным крепом, стояли симметрично около розового, богато украшенного серебряными бляхами гроба, а в нём лежала… Он узнал ее, несмотря на мертвенную бледность лица и уст, некогда дышавших весеннею теплотою жизни – она как будто только рассталась с жизнью: какая то неземная полуулыбка сияла на лице её, руки прижимались к груди… и покоились на застывшем уже сердце. Артемий в горячке чувств забился в окно…
Сопутник схватил было его за плеча жилистыми руками, своими; но он с невероятною силою вырвался из его рук и пустился к Каменному мосту… Куда делся – Бог весть!
Даже Квартальный Надзиратель тамошнего квартала не мог дать отчета начальству своему о пропавшем молодце.
Что сделалось с Агашей? Старухи Замоскворечного околотка – тайком говорили друг другу, что муж её был лакомый кровопийца и уже из трёх жен высосал жизнь… это составляло его свирепое удовольствие. Догадывайтесь сами, что было причиною смерти её.
И Тихон Сысоевич сказал мне о ней неудовлетворительно.
* * *
Одно несчастье влечет другое.
Пословица, писанная опытом в свиток жизни.
– Ну, старуха, полно тосковать! – говорил Гур Филатьич, перебирая пуки ассигнаций, жене своей; повязанной траурным платком. – Посмотри-ка сколько выручки получал я сегодня только за один месяц! Утешься: мы положим их к старому приобретению. Слава тебе, Господи, ныне же отслужу молебен своему патрону!
– А завтра панихиду в память покойницы: завтра девять дней Агаше… Ох, мои родные, тошно жить па свете… сгибла ты, моя крошечка, мой голубчик беленький, – говорила плачущая Матрёна Андроньевна, всплеснув руками.
– Смотри-ка, жена, – перервал ее Гур Филатьич, продолжая заниматься своим делом и вытаскивая красную бумажку из целого пучка: – ведь это фальшивая… я узнал её по осязанию, да я её сбуду с рук…
– И полно, Гур Филатьичь! Как ты Бога не боишься, что хочешь обманывать людей из-за таких пустяков; послушай меня хоть однажды: брось её.
– Ну, пожалуй, ин быть так! – нехотя произнес Гур Филатьич, свёртывая ассигнацию трубкой.
Близ него топилась печь: он лениво швырнул в неё бумажку.
Быстро охватило её пламя, втянуло в жерло печки – и только что замелькали розовые искорки на пепле.
– Хозяин! Федул Панкратьич прислал к вам что-то! – послышался голос из-за двери.
– А, слава Богу, знать он прислал Агашино приданое! – радостно произнес Гур Филатьич, поспешно сунул деньги свои под шапку и вышел из комнаты, сопровождаемый старушкой своей; а Иванушка, малолетний сынок их, высматривавший сквозь щелку двери на занятия отца своего, вошел вместо него в комнату.
Немного погодя возвратился Гур Филатьич. Иванушка встретил его:
– Посмотри-ка, тятя, как славно горят все разноцветные бумажки твои! – сказал он: – А то что за важность одна, вишь, как переливается на них огонь! – и дитя захлопал от радости в ладоши, что умел составить себе такую забавную игрушку, подражая отцу.
Гур Филатьич взглянул – и обомлел; весь пучок ассигнаций его обратился уже в пепел – кое-где только проскакивали искорки.
– Ах ты, собачий сын! – заревел он скрежеща зубами, и хлопнул его по виску медным набалдашником палки своей.
Мальчик покатился мертвый.
Донесли, что преступник был одержим белою горячкой, и вскоре после того, не знаю уж хорошенько, от угрызений ли совести, или от лекарских микстур, Гур Филатьич умер на подушке, набитой пучками ассигнаций.
С участием взглянул я на могильный камень, налегавший на прах Гура Филатьича, тяжко вздохнул – и, обуреваемый черными мыслями, с грустью побрел домой…
Вечер второй
99 волос, или Лаковый череп
Как чудна, смешна и разнообразна жизнь людей! – это призма всех цветов, переливно меняющихся. У одних часто вспрыскивается она слезами, у других фиалом забвения – вином; одних неласковая судьба водит за нос, да еще прищёлкивает по нему, гладит их по гладкой макушке шерстяною рукавицей и поставя их на хрупкие ходули, заставляет плясать насильно до слёз; других она нянчит на мягких ладошках, своих, приголубливает не по-мачихиному, закатывает в пух удовольствий, холит в благоуханной купели наслаждений и оттуда вдруг прямо бухнет в грязную лужу невзгоды. Посмотрите – иной юноша ходит козерогом, а старик на дыбках. И здешний свет не разгадочен; что ж будет там?
Нашего полку убыло, убыло,
Ахти, тоски прибыло, прибыло!..
Плач инвалидов на могиле любимого товарища.
За ненастьем – вёдро;
за тоскою – радость!
Старинное замечание.
Не знаю, как вас, читатели, а меня Тихон Сысоичь приохотил слушать некрологию жильцов своих. На другой вечер, когда сумеречная темнота, расширив крылья свои, начала отенять московские улицы с тьмочисленными переулками её и безпощадно сметала с земли солнечные блёстки, как веником, я уже сидел…ском кладбище рядом с рассказчиком своим и по-дружески вёл с ним следующий разговор:
– Ну, почтенный товарищ, – начал я: – повесть твоя настлала на душу мою тень, чернее теперешних: я и во сне видел Гура Филатьича, который будто бы вытаскивал из-под меня подушку, жалуясь на жесткость гробовой, а, может быть, думая, что в ней зашиты ассигнации его. Теперь расскажи-ка мне что-нибудь повеселее…
– Изволь, барин! – отвечал словоохотливый собеседник мой, обчищал заступ свой от сырой земли: – У меня есть и веселый покойник. Всмотрись-ка: вон левей от черного-то креста квартира его под лысой вывеской!
Любопытство сдвинуло меня с места: я подошел поближе к показанной Могиле и увидел на простом, выкрашенном кресте незатейливо изображенную лысую вывеску: так иронически называл Тихон Сысоич Адамову голову.[9]
– Вот, барин, этот кудрявый череп (Тихон Сысоич был остряк) страх как похож на весёлого покойника, о котором я хочу рассказать: и глазки, словно опустелые гнезда, и клыки зубов, только нос у того был большего роста…
Эпитафии не заметил я никакой на ветхом памятнике; крест с качнуло ветром несколько в сторону и стоял он, точно подбоченясь или шатаясь от похмелья, как будто из покойника выходили еще какие-то испарения и сообщали их дереву. Только заметил я на кресте начерченные какие-то символические слова, вероятно перочинным ножичком: две палки, подпоясанные поперёк, точно буква Н; но вышло дело, что это была буква А; еще Египетская пирамида на скамейке – стало быть это старинное Д, и в заключение К с таким большим крючковатым носом, что я подумал: уж не готовится ли начальная буква фамилии героя грядущей повести, вытянуться ко мне в табакерку за приёмом одного заряда табаку – а это также был символ одной из страстей покойника; к довершению всего я заметил, что он похоронен точно в насмешку, под осиной, и на его могиле, расположенной в сыром и топком месте, вместо розы вырос огромный мухомор.
Когда я вдоволь насмотрелся на могилу со всеми её и принадлежностями, Тихон Сысоич опять завел речь:
– Этого знаю я лучше всех здешних постояльцев: он нанимал уголок у отца моего, который производил тогда обручное мастерство, и мне, еще мальчишке в зимний вечер рассказывал бывало мудреные похождения свои.
Читатель, слышанное пополам!
Отставной магистратский чиновник Алексей Дорофеевич Калдуев, коллежский секретарь и разных жён и вдов услужливый кавалер, родился в 17.. году на Бутырках, как и многие великие люди происходят оттуда. Думаю, что не только иногородние, но большая часть и московских жителей не знают в подробности столицу баранок. Бутырки! разбирать ли исторически это село, ознаменованное рождением Алексия Дорофеевича? не хочу верить, что оно получило название свое от Бутырского полка: лучше согласимся, что бич древней России, Батый, приплыл туда на Венецианской гондоле от Волги через Оку и Москву-реку, тайком влюбясь в какую-нибудь россиянку, диву снегов, и в честь её давал бал на расчищенной поляне, угощал красавиц маханиною, мясом любимого коня своего – от того это место и прозвалось Батырками; но капризная молва преобразила букву а в у, и вышли Бутырки, к вашим услугам: а можешь быть, в это место ссылали Московских чухонцев, где они делали свое Butter[10]; как бы то ни было, но вот вам готовый источник для исторического романа, недавно откопанный догадками. А что всего вернее, то это название, положим, может происходить и от Бутырей, или понятнее: от будочников-инвалидов, которые сперва нанимались караулить горох и репище, потом, выйдя в чистую отставку, избрали это место отчизною своею, поселялись там, заводились домком, пропитывались, положим, хоть деланием мышеловок, и таким образом породили великое число служителей типографиии: наборщиков, подъёмщиков, тередорщиков[11], словолитцев и проч.
И в самом деле, эта сторона теснится почти только для особенного этого племени, для ранга людей, отличного от других во всем смысле этого слова. Теперь промышленность мышеловками обратилась в баранки, и если кому угодно посмотреть на Бутырки во всей их характеристике, то милости просим пожаловать туда восьмого сентября в праздник Рождества Богородицы, и там увидите вы всё: и азиатскую роскошь, и немецкую аккуратность, промокнутую пивом. Там бывают в это время: Московское гульбище, иногородняя ярмарка, откликающаяся гудками и дребезжаньем барабанов. Там красуются трактиры для приказных, гостиницы для извозчков; там бывают раскинутые на скорую руку лубочные балаганы, завешанные вуалями рогож, а в них найдете вы и благовонную помаду из сальных огарков с наклейками портретов Зонтаг для Бутырских красавиц, и душистый дёготь для ямщиков; там и выставки женских красот, и собачья комедия; там всякая всячина, начиная от потомков Алексея Дорофеевича, до палатки с верблюдом. Почетное лицо на этом гулянье есть – Квартальный Надзиратель со свитою своею.
Итак, Алексей Дорофеевич был (упокой Господи его душу) сыном, не то что бы какого-нибудь тередорщика, но словолитца, следовательно происходил по прямой линии от бутыря, т. е. старшего земского ярыжки. В то время Бутырки хотя были и попроще нынешних, однако тщеславились тем, что незадолго до рождения моего героя проезжала через них Великая Екатерина по пути к Троице, гостившая летом в Петровском дворце. Алексей Дорофеевич родился в феврале месяце в день Кассияна, и в тот високосный год, по замечанию старожилов, развелось на пажитях множество саранчи и летучих мышей.
Так как родитель Алексея Дорофеевича был человек небогатый, то появление на свет сына его не было встречено оркестром музыки и заздравными кликами; одни только мыши за сундуком, с визгом разделяя между собою какую-то добычу, хором пропищали ему привет свой, а на крестинах его вместо бала, была простая медвежья пляска перепившихся типографских витязей, державших за кушаки друг друга и рисовавших тяжелыми ногами своими непроизвольныя па; к довершению крестинного пира, сказывают, завязалась драка между каким-то капралом и церковным псаломщиком, из которых последний принес в жертву этого спектакли свой пучок волос (недобрый знак для новорожденного, как увидим ниже) и пошел на свою колокольню с чистою головой. Других, также расхрабрившихся гостей, развели уже пожарной водоливной трубой – и выпроводили чуть не толчками со двора. Таким образом разошлись все гости, хотя биты, зато сыты.
На зубок новорожденному остались – выбитые зубы.
Виновник бытия Алексея Дорофеевича, как чадолюбивый отец, не редко обмывал своего наследника простым вином, будто бы для окреплости тела, и после, сказывают, между лакомыми гостинцами часто наливал он вино в рожок дитяти, приучая его и к сладкому и к горькому. Лёничка не морщился – а еще с досады визжал, бывало, как поросёнок, когда долго не давали ему любимой влаги. Таким образом рос дитя не по дням, а по часам и минутам и становился рослым детиной.
Первое знакомство мирского новопоселенца с здешним светом было ясно, тихо, спокойно, кроме двух случаев: однажды мать его в домашних хлопотах забыла птенца своего спеленутого в сенях, и его чуть-чуть не всего расклевали куры, уговариваясь уже между собою в спорном клохтанье: кому взять какую часть младенческого тела; но звонкий голос дитяти спас его от этого дележа, а кур от тошноты и пресыщения, хотя не спаслось имя его от обидной прибавки к нему: куриные объедки. В другой раз старая няня его, совершая тризну в родительскую субботу, за неимением денег снесла мальчишку в питейный дом, а когда хозяин его стал требовать у ней расплаты, она заложила его в обеспечеиие долга своего за несколько грошей, которые обещала скоро принести для выкупа ребенка, и вот до сих пор приносит. Каким образом и скоро ли выкупил Лёничку отец его, никто того не знает, но толковали только, что малютка не тосковал на новоселье своем, а еще хозяйничал у хозяина своего, и что когда сердитый словолитец азартно кричал на кухарку, как осмелилась она без спроса заложить сына его, она будто храбро отвечала, что она сама имеет на него права не менее отцовских; уж в каком это отношении значило, право не знаю.
Образование Алексея Дорофеевича началось с семилетнего возраста: лишь только минуло золотое, потешное младенчество его и наступило отрочество, Лёничку стали звать Алексеем, а иногда и Алёшкой, когда он, бывало, служив по особенным поручениям у отца своего, бегивал по приказу его за живой водой, не доносил ее до дому и вспрыскивался ею до мертва; в таком случае к побранкам присоединялись ему часто и палочные увещания. Алексей, быв еще Лёничкой, отличался уже между товарищами своими в разных хитрых прожектах: он умел затейливо из древесной коры вытачивать маленькие лодочки и пускать их в канаву, полную воды, в которую не отказывался он впоследствии времени спихивать и гостей отца своего, шедших в сумерки с гулливого пира; то о святой, бывало, присаживался он на большой дороге у мостика, прикидывался безногим, юродивым и покачиваясь на обе стороны, распевал протяжным и прежалостным голосом песнь об убогом Лазаре; мимошедшие, иные, кидали ему в полу грошевики, а мимоехавшие стегали кнутом, и тогда он забывал роль свою, вскакивал как заяц, и бежал прочь. Случалось ещё, что он, но особенной протекции детенят тамошнего пономаря, имел случай влезать на колокольню и приводить в движение все Бутырки, ударивши в набат; пономарятам доставалось за то порядком, да и на Лёничкиной скорченной спине обновляли не один веник.
С семилетнего возраста Алексея приняли, что называется, в ежовые рукавицы: то был какой-то Волоколамский мещанин, зело лихой на книжное разумение. Он с незапамятных времён поселился на Бутырках, промышляя себе насущность детской указкой. Отцы за детей своих платили ему кто чем мог: кто связкой баранок, кто кринкою молока, кто десятком яиц, кто самой наседкой. Дядя Перфил, так звали этого Энциклопедического самоучителя, был почитаем всею деревней за самого мудрёного человека, т. е. учёного. – Голосу его уступали и в мирской сходке: он предписывал Бут – м жителям, как Ликург Спартанской Республике, самые строгие законы; он судил и рядил, сколько праздников в кругу должно быть в году, когда наступает разрешение вина и елея; в какие числа, чётные или нечётные, сбывается виденный сон; он доказывал еще, почему Аксинья не есть человек, а только баба; он мирил кошек с собаками, мужей с женами, горох с бобами; вставлял зубы лошадям и приготовлял румяна девицам из кирпичных вытерков; бывал дружкой у козлов и сватом у не выговоришь всего: уж я сказал, что дядя Перфил был Энциклопедист. Только не добрался он: отчего женщина бывает оборотнем, много говорит даже во сне и ходит пятками назад, когда везде хочется быть впереди всех: только эти думы озадачивали смышлёного человека и он при всем уме-разуме своём отступился от познания женщин. Дядю Перфила не любил только сельский дьячок, за то, что он отбил от его часослова пансионеров, да малые ребята, которых пугали его ушастой шапкой и усастой бородавкой, прилипшей к правой щеке его, точно паук-кровопийца.
К нему-то, в число вольноприходящих, поступил и бывший Лёничка – нынешний Алексей Дорофеевич.
Общий учитель был строг: бывало когда он нахлобучит шерстяной колпак свой на глаза и хлопнет рукою по столу, все вздрогнут, а потом когда вскрикнет: Кто создал свет? Ну, скорей отвечать! – школьники одноголосно возопят: Виноваты! Вперед не будем! – Наш герой не только разбирал буквы кси и пси, но и писал чётко и был востряк в полной мере; за то Фортуна и влюбилась в него, не смотря на то, что ее поэты зовут кокеткой. Что исчислять проказы отрочества Алексея Дорофеевича? кто молод не бывал, кто не шалил по-детски и по-юношески? И что за беда, если он подавал, бывало, учителю своему умываться чернилами, или мешал табак его с землёю, а страшную шапку надевал на рога козлу и выгонял его на уличную выставку передразнивать своего ментора? Нужнее сказать вам то, что Алексей Дорофеевич тринадцати лет окончил уже курс наук своих и готовился вступить на какое-нибудь поприще жизни.
На Бутырках, в описываемое мною время, находилась та же самая церковь во имя Рождества Богородицы, какую видим мы и теперь; в нее по праздникам, особенно летом, съезжалось из Москвы множество народа обоего пола к обедни. Не дивитесь, тому была следующая причина: в то время Московским Губернатором или, по тогдашнему, Градодержателем, был Генерал-аншеф князь Александр Александрович Прозоровский; он живал с весны до самой осени на приволье чистого воздуха в Петровском Дворце, Тогда окрестности его были не то, что ныне: выстриженные, приглаженные каменным катком и прозванные парком; хотя там давались громкие праздники и сверкали порою, сквозь тёмно-зелёныя ветви дерев, потешные огни, но всё-таки памятник Великого Петра, заслонённый лесом, величественно выказывал из-за древесных вершин вычурные, живописные башенки свои. То был не уголок Москвы, а настоящая дача с придачами деревень: Петровского и Зыкова.
Оттуда-то Градодержатель с блестящею свитою, со скороходами и рослыми гайдуками, стоявшими сзади раззолоченной, обитой внутри бархатом кареты, и сидевшими на крыльцах её по бокам, приезжал цугом на Бутырки к обедне. За ним тянулись линии других вельмож, чопорно и пышно, с вершниками[12] и другими слугами и прислужниками. На Бутырки тогда прихаживали бывало толпой так называемые и славившиеся в то время Гусарские певчие в красных кафтанах, обшитых золотом, между коими находились и женщины, остриженные в кружок и одетые в мужские платья.
Вот по сему-то случаю не только простые горожане и горожанки московские в праздничных платьях своих, но и вельможи, чтимые жители столицы, роскошно наряженные по вкусу тогдашнего времени: мужчины в пышных, густо напудренных париках, в узких камзолах с золотыми пуговицами, в белых панталонах, с огромными треугольными шляпами под мышкой, в шёлковых чулках и в башмаках с дорогими пряжками, чинно вхаживали в церковь, а дамы в глазетовых платьях и в пребогатых длиннохвостых робах, усеянных блёстками, с готическими головными прическами и с лицами, улепленными мушками, павами выступали, направляя путь свой к почетным местам, отведенным им около клироса. Их сопровождали обыкновенно и в церковь гайдуки с булавами, расчищая ими для бар своих путь по обе стороны. Туда хаживал и Алексей Дорофеевич в байковой чуйке своей, или в затрапезном халате, и прямо становился на левый клирос на помощь дьячкам, псаломщикам и трипачам. В то время был он уже видным юношей и хотя почтенный нос его всегда походил на букву V, однако он имел выразительную физиономию, на которой примечались щедро навешанные природой тонкие чувства изящества молодого человека: лицо его было бело, только под правым глазом носил он синее пятно от уязвления кулака или камня, неблагонамеренно брошенного в него, может быть, каким-нибудь ревнивцем из-за скрытой засады; румянец пылал на его щеках, не то, чтоб розовый, но тёмно-багровый, под цвет домашней браги, до которой он был великий охотник; но когда раздувал он в церкви кадило, то на лице его отражался самый яркий цвет огня и иллюминировал щёки его, вздувавшиеся как меха, самым приятным розовым цветом.
При таких наружных вывесках и внутренних качествах, мудрено ли, что Алексей Дорофеевич обратил на себя взоры многих сановитых людей, но более всех лестное внимание супруги одного из начальников Московского Университета. Почтенная старушка жила и дышала добром: она была богата, но почитала себя такою тогда только, когда могла разделять с бедняком своё имущество. Зоркий глаз её приметил смышлёность и расторопность мальчика, особливо когда он с большой свечой или с налоем совался услужить духовной особе и кричал дишкантиком своим на чёрный народ, принуждая их расступиться, а вельможным, великолепным барышням приятно кланялся, еще с откидкою назад правой ноги. Татьяна Ивановна ласково брала его за подбородок и гладила по голове, тогда еще не гладкой. Мальчик почтительно целовал благоуханную перчатку её и с самодовольным видом отходил от неё прочь.
Однажды она удостоила его расспросами об его родителях, о домашнем житье-бытье и о проч. о проч. Алексей Дорофеевич отвечал ей удовлетворительно, что еще более понравилось доброй барыне; лакеи её с коврами под мышками, на которых она усердно молилась, стоя в церкви на коленях, давно уже раскинули пред нею каретную подножку и держали её под руки, чтоб вложить в карету, но она не спешила отъездом своим, продолжала говоришь с юношею, стоявшим пред нею, разумеется, без шапки, милостиво и кончила тем, что позволила ему в случае какой-либо нужды явиться прямо к ней на Моховую в Университет. Алексей Дорофеевич вступил уже на четырнадцатый год жизни своей; понятия его об ней развёртывались в голове его понемногу, как клубок ниток, хотя и спутывались так же, как нитки на клубки, когда им играет резвый котёнок; он понимал, что к нему лучше пристанет суконный кафтан со светлыми пуговицами, чем затрапезный халат с ременными застёжками, и что чинное обращение с людьми высшего тона более накличет на него чести, чем товарищество с бурсаками, с которыми он кулачился иногда.
Он видал в какой чести треугольные шляпы, на каких бы головах ни были они надеты; он видел также, что пред этими шляпами уважительно снимаются простые, круглые, а шапки просто досягают до земли при встрече с официальным человеком; даже собаки, завидевшие их издали, прятались от них, прижав хвосты и лаяли им побранки свои из подворотни. А красный-то воротник? – фу, ты Боже мой! – как бы он пристал к сановитому его носу!.. Юноша становился на дыбки, оглаживался – и жажда к тщеславно, начала палить его душу. Алексей Дорофеевич остепенился: украдкой ходил уже в питейный дом, по праздникам не званивал на колокольне, по будням не рубил дров в сарае, не катался с гор на санках и по льду на коньках, оставил компанию кутейников, неумытых товарищей своих, а пристрастился к зеркалу: страсть к стеклу вообще задвигала его чувствами сильнее прежнего; при взгляде на благородного человека, он дулся как лягушка на вола.
Скоро наступил давно ожидаемый другой период его жизни.
Родитель Алексея Дорофеевича был человек неимущий; он с радостью глядел на подростка своей фамилии и мысленно определил отдать его куда нибудь долой с хлебов, чтобы упрочишь его жизнь. Однажды завел он с ним речь об этом предмете:
– Пора тебе, Алексей, – сказал он: – самому промышлять себе насущность: ведь ты человек не простой, безграмотный, а ученый, читаешь бегло: и Псалтырь и Часослов и всякие кафизмы, пишешь также хорошо, четко, разборчиво; я хочу свести тебя в нашу типографию: там, у меня под рукой, станешь исполнять ты, сперва, как водится, должность тередорщика, а после, при хорошем поведении и смышлёности в работе, может быть, дойдёшь до должности наборщика, а, каково? – начальники полюбят, так чего не сделают!
Отец думал, что сын его обрадуется и кинется благодарить его, но вышло напротив: Алексей Дорофеевич скислил лицо своё так, как будто принял противное лекарство.
– Нет, батя, я не хочу коптиться в твоей типографии, – отвечал он: – там всё кутейники, да увальни, такие неприглядные; давай мне другую работу!
– Да какую же тебе надобно другую работу, несмышленый! – обидясь, вскричал отец его – Разве посадить тебя, дурня, в табачную лавочку торговать всякими мелочами, так капитала нет. Али услать тебя промышлять крыжовником и пряниками – всё сам пролакомишь на сбитне и на другом чём пропьёшь; ну куда ж ты годишься, лентяй? Да, постой, у меня есть знакомый обойщик…
– Не хочу быть и обойщиком, – прервал Алексей Дорофеевич отца своего: – а вот чего мне желается: отдай-ка меня, батя, к тем мастерам, что вот сидят на лавках в судейских палатах с перьями за ухом и с очками на переносье, да размахивают пером по бумажному полю; вот на нем то повоеводствовал бы я – ведь говорят, у них: что крючок, то и пятачок, что лишь выгнется слово из-под пера, то и согнётся рука за даянием; подумай-ка, сколько рублёвиков можно вычеркать там за один день.
– Понимаю, это подъячие, то есть, приказные люди, – отвечал отец. – Что ж ты хочешь наняться писать что ль у них? Смотри, брат: этих ходячих, отставных, за мошеннические дела площадных подъячих бьют нещадно на всяком перекрестке, как бешеных собак, за то, что они морочат добрых людей.
– Не хочу быть ни подъячим, ни приказным, а хочу быть чиновным, благородным офицером, ходить при шпаге и в треугольной шляпе! – упрямо и настоятельно говорил Алексей Дорофеевич.
– Благородным!? – изумленно произнес отец Алексея Дорофеевича. – Да с чего ты это выдумал неумой такой-сякой? Вот я счищу с тебя дурь-то кнутом семихвостым! Да кто тебя впустит в судейскую? Разве у тебя есть какие казусы или денежные погремушки?
Алексей Дорофеевич принужден был молчать, особливо в то время когда отец его размахается бывало руками и ловит своего сына за хохол.
– Готовься в тередорщики, или подай на себя палку! – были последние слова родителя Алексия Дорофеевича.
* * *
Чему смеешься ты – твоё изображение!..
Помнит ли кто из читателей моих, когда Университетская Типография находилась еще против самого Университета на месте нынешнего Дворянского Института, откуда пред тем временем только что переехала Межевая Канцелярия в Кремль? Типографию за условленную цену отдавал тогда Университет содержателям: Ридигеру и Клаудию, которые и распоряжались ею самовластительно. Вот туда-то словолитец Колдуев свел сына своего и чрез какого-то услужливого кума, помощника Фактора, имел доступ к Ридигеру, старшему хозяину типографии. Мальчика погладили по голове, задали ему экзамсн, и он быстро прочел две статьи из письмовника Курганова: перечень человеческих знаний, и рассуждение Сенекино: не прилепляй чувств своих к предлежащим увеселениям, и проч. Кончил он чтение своё следующими словами: колико полное удовольствие не быть пьяницею!..
Алексию Дорофеевичу понравилась похвальба его дарованиям и он после чтения в нескольких строчках выставил целый фрунт горбатых, крючковатых, изгибистых букв собственного рукописания. Ридигер был в полном, нелицемерном восторге от совершенства образования его: в то время находилось у него не много подобных грамотных людей. Алексей Дорофеевич тотчас же был определён в наборщики, не соблюдая градации повышений. Отец его с радости заликовал так неумеренно, что сын стащил его домой на закорточках; нововступившему положили уже жалованья по целому рублю в месяц и по калачу в день, чтоб заохотить его к должности; но он скоро разлюбил её, всё имея в предмете благородство: то прикинется, бывало, он больным и лежит дома на полатях, раскрашивая лубочные картинки к сказкам Картауса, Еруслана и Ивана Царевича, купеческого сынка; но когда отец, проникнув мысли его, стал делать ему неласковые проводы из дому, вдруг замыслил он бежать; но куда?
Помилуйте, ведь Москва велика; есть где спрятаться, потеряться между людьми. Ощупав в кармане своём сколько-то денег, для бодрости принял он живительного зелья, которое возымело скоро свое действие в существе его: прибодрился он и пустился: то рысью, то навскачь по широкой Московской дороге.
Полудеревенский мальчик, кроме Типографии своей, знал Москву более по слуху; прежде же поступления своего в Типографию, хаживал он с ребятишками только в Петровскую рощу за ягодами и грибами. А теперь вздумал посмотреть свет и начал с Охотного ряда; это дело было зимой и в какой-то еще праздник. Боже ты мой, что увидел он там! Правда, Охотный ряд в тогдашнее время состоял большею частью из деревянных лавок, раскиданных на том же месте, на каком видим мы их и теперь, но без плана и симметрии; тогда он походил на какой-то Азиатский ярмарочный притон: балаганы, лавки, прилавки, нагруженные возы со всякими съестными продуктами; даже конные выставки для охотников: солидные, толстые торгаши, чушь движущиеся около товаров своих, и свиные туши на дыбках, мёрзлые белорыбицы с выпученными глазами, спрятанные в сани и выглядывающие робко из-под рогож, покрывающих их, как красавиц, от сглазенья, ощипанные гуси с посинелыми поджавшимися ногами, как промотавшиеся гуляки без сапог: всё это было вперемежку, всё это представлялось в раме картины общего спектакля, всё это было дико, нестройно; но для мальчика показалось дивным, великолепным зрелищем. Среди Охотного ряда, помнят еще, я думаю, старожилы, находился Монетный двор: там чеканили монету до времен Императора Павла, который, скажем мимоходом, перевёл его в Петербург, а окружное строение подарил тогдашнему обер-полицеймейстеру Павлу Никитичу Каверину.
На всё это зевал малыш так пристально, ненасытимо, до тех пор, пока бочар, ехавший на Неглинную за водою, не столкнул его с дороги оглоблей так неучтиво, что с него свалилась шапка. Молча поднял её любопытный мальчик, вздохнул и подумал: «Вот кабы я был приказным человеком, водовозный пристав не смел бы не посторониться моему благородно и кляча его не фыркнула бы на меня таким фонтаном, и её бы спугнула моя треугольная шляпа».



