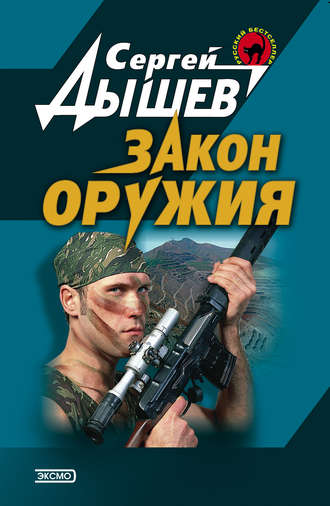
Сергей Дышев
Закон оружия
Всех это привело в ярость. Иванов кипел:
– Пока мы здесь примериваемся, с какого бока подлечь, они выроют окопы полного профиля и будут долбать и давить нас, как червей.
– Лучший бронежилет – это окоп, это еще Суворов сказал, – мрачно отметил Саша Черный. Его так прозвали, потому что был Саша рыжий – Иванов. Они, как я заметил, вечно спорили между собой и, кажется, не могли существовать один без другого.
Солнце пригрело, все стали щуриться, снег подтаял и превратился в грязь. Она прилипала к ногам, постепенно перемещаясь все выше и выше по нашим телам. Есть у любой грязи такое ползучее свойство.
Стороны щупали друг друга – пока без выстрелов.
В два часа стало ясно, что наступления не будет. А в три часа дня нам приказали вернуться на исходный рубеж. Мы весело и с матом прошли свои двести метров в тыл, на исходный рубеж, испытывая облегчение и сознавая одновременно, что село для нас неотвратимо, как божья кара, что кого-то убьют, непременно убьют на этом холодном вымороженном поле… Но, конечно, никто не высказывался на эту гнилую тему.
Мы вновь стали переправляться через арык, ящики покрылись жирной грязью, и Саша Черный, увешанный огнеметами, поскользнулся и рухнул в воду, провалившись по колено. Его тут же подхватили, вытащили, потом выловили автомат. Он мужественно перенес падение и уже через полминуты прекратил грязные ругательства.
Мы вышли к дороге, которая серой стрелой уходила в село. В низине, у шоссе, тянулась молодая лесопосадка – тополя трех-четырехлетнего возраста. Кто-то первым показал пример: согнул деревце, навалился, оно жалобно захрустело, переломилось. Потом боец стал рвать, крутить его, как пес, рвущий клок мяса из подыхающей лошади. Это послужило сигналом. Оголодавшие, заледеневшие на ветру массы бросились на посадки. Более крупные деревья брали штурмом: Бабай с ловкостью обезьяны пополз по стволу, уцепился за вершину, дерево накренилось, будто боролось изо всех сил, Бабай на руках продвинулся дальше, пружиня, опустился на землю, ему помогли, в место перелома впилось широкое лезвие штыка. Повсюду стоял жестокий хруст, треск, будто живьем ломали кости. Не прошло и часа, как от посадки остались худые обрубки, нелепым частоколом торчащие из земли. Тут заполыхали костры, снопы камыша, принесенные из арыка, вспыхивали ярким пламенем. И никто не думал о погибших деревьях, на этом поле все носило отпечаток временности, и законы времени здесь существовали совсем иные. Измерялось оно в шагах и метрах, днях и минутах. Враждебное село, странная диспозиция, заложники, несчастливой звезды люди, отчаянные или отчаявшиеся боевики с зелеными повязками над глазами… Ровно в двенадцать, ежедневно, если ветер дул со стороны села, доносились протяжные и жуткие призывы муэдзина, бойцы ислама – гази – совершали намаз, подбадривая себя воинствующими криками. Священный газават был их единственной стезей…
– Все, у кого консервы, тащи сюда, делить будем, – крикнул Бабай. Он разогрелся и чувствовал прилив сил. – Банка тушенки – на двух человек.
Мне почему-то решили выделить персональную, но я решительно отказался. Пришлось-таки согласиться. Оставшуюся половину поставил на костер. Возле него сушился и одновременно ковырял тушенку Сашка Черный.
– Ложку сломаешь! – заботливо предупреждал его товарищ.
– Сделай пять минут инкогнито! – сурово отвечал Черный Иванову.
– Ребята, кто наркоту потерял? – Саня крутил рыжей головой и показывал всем шприц-тюбик из индивидуального пакета.
– А ты его под тушенку оприходуй! – посоветовал кто-то.
– Что ты мне бублик от дырки крошишь?
– Говорят, у тридцати шести омоновцев новосибирских, которые в заложниках, крупнокалиберные пулеметы были, куча боеприпасов, «мухи», «шмели», бронетранспортер. «Чехи» все забрали, теперь в нас стрелять будут, – сообщил Рогожин. – До сих пор не разберутся, кто дал им команду не стрелять.
– Теперь уже не найдешь…
– Сдались, думали – уцелеют.
– Может, и уцелеют.
До самого вечера мы кормились слухами. Пришло известие, что расстреляна группа старейшин, которые пришли в село на переговоры, днем раньше прошла информация, что начался отстрел милиционеров-заложников. Эти новости подогревали страсти, правда, не совсем ясно было, чего конкретно хотели добиться бандиты этими казнями: быстрейшей развязки событий? Вся информация для журналистов шла по линии ФСБ. Ежедневно светловолосый парень самого простецкого вида (что не мешало ему иметь генеральское звание) собирал толпу журналистов и негромким голосом вещал в их камеры и микрофоны. Информация была противоречивой, и сам генерал это прекрасно сознавал, но делал вид, что развитие ситуации под контролем, просчитана наперед. Ему можно было посочувствовать. Но жестокие журналисты имели каменные сердца и крокодильи зубы. Они требовали пропустить их через заслоны и отвечать на любые вопросы без утайки. Здесь были настырные ребята из американской компании «WTN», корреспондент «Комсомолки» Витя, который показался мне знакомым – и точно, выяснилось, что он кадровый офицер погранвойск, лихая бригада из «НТВ» во главе с жизнерадостным увальнем Аркашей Быковым. А чего им было не радоваться: имели свою машину со спутниковой телефонной связью, которой я не преминул воспользоваться – накоротке переговорил с шефом. Он обрадовался, и кажется, ни черта не запомнил из всего того, что я ему передал. Он все просил меня поберечься. Такими же беспощадными бродягами были двое искателей приключений из телерадиостудии МВД – небритый, как кавказское лицо, Серега и флегматичный оператор Саня – точная копия Шурика из «Операции „Ы“,» только более пожилая. Оба они, как и я, хронически дрожали на ветру, потому что тоже не имели привычки одеваться тепло, уходя на работу.
До вечера мы, то есть водитель из местных Мага, смуглый, как индус, доктор, которого звали Егорыч, молодой стажер Игорь и я, заправили горючим автобусы, тронулись обратно. По пути заметили кучу кривых бревен. Они были грязными, мокрыми, но жизнерадостному стажеру по имени Игорь пришла идея забрать их с собой. Правда, Егорыч сказал, что ну их на фиг, возиться с ними: в автобусе и так не протолкнуться. Но я решил исход дела: с жаром схватился за дело. Меня хлебом не корми, дай бревнами поворочать. Чисто ленинская, к слову, черта. Коммунистическая. Признаю, добавилось количество брани на квадратный метр – недорубленные ветки торчали во все стороны, мы ходили по ним, как по баррикаде.
Автобус подогнали почти к исходному рубежу. Тут выяснилось, что нам предстояли новые погрузочные работы, о которых к стыду и позору не подумали. Войска наступающие могут обойтись без бревен и даже без пищи. Но не смогут пройти и десятка шагов без патронов, гранат и снарядов.
Вокруг собрались наши. Они с интересом смотрели на полезную площадь автобуса, занятую бревнами. Голоса разделились: одни стали кричать, что бревна во что бы то ни стало нужно сохранить – ночью все околеют от холода, другие орали, что некуда класть боеприпасы. Победила вторая сторона. С грохотом и матом мы выбросили бревна на улицу. Вместо них стали грузить ящики с патронами, гранатометы, огнеметы и прочие полезные штуки. Часть людей осталась на позициях, остальные, вымороженные и злые, ввалились в автобус.
Я понял, что война не начнется ни сегодня, ни завтра. Мышеловка захлопнулась. Но чтобы достать зверька, надо было просунуть руку, рискуя получить смертельный укус бешенства. Можно раздавить его вместе с мышеловкой, но тогда жизнь несчастных заложников будет не дороже кусочка сыра.
Я забился в углу, но все равно чувствовал, что мешаю, что в этой давке и тесноте – инородное тело, и очень странно, что меня еще не вышвырнули на улицу. Неожиданно объявили, что совсем рядом, метрах в ста, раздают горячую гречневую кашу и сладкий чай. И я тут же предложил своему соседу Сане Иванову смотаться на прикорм. Но он хорошо устроился и сквозь сон пробормотал:
– Сходи сам. Заодно и на меня возьмешь.
Мне захотелось быть полезным обществу, я взял котелок, потом еще два, просунутых мне из темноты, три фляги и, крикнув Маге, чтоб открыл заднюю дверь, ринулся вниз. В следующее мгновение я покатился по ребрам ступеней в десять раз быстрей, чем на эскалаторе. За это краткое время я отшиб себе край печени, бок и позвоночник. Дикую боль ощутил уже в грязной луже. Мой сдавленный крик утонул в шуме ветра и гуле мотора. Я мужественно встал, ощутив безобразную, незаслуженную боль. К счастью, котелки и фляги даже не коснулись земли. Дальше надо было идти по жуткой грязи почти в полной темноте. Шагов через двести на мои штиблеты нависло по три кило отборной глины, тут я и заметил лампочку, которая освещала серое скопище голодных. Я сумел ловко съехать по грязи под откос, балансируя тарой в вытянутых руках. В конце концов, ничего страшного, что зад у меня мокрый. Зато как хорошо, по-домашнему, пахнуло разваренной гречкой. Дородный прапор возвышался над полевым котлом, щедро наваливая кашу в протянутые котелки. Минут через десять подошла и моя очередь. Потом пришлось долго ждать чая: какой-то начальствующий нахал умыкнул единственную кружку и, пыхтя, долго хлебал из нее. Остальные почему-то ждали и не рыпались. Наверное, подобрели. Или отморозились. Наконец я полностью нагрузился и, обжигая пальцы, пошел обратно. Некий длинный человек весело предложил мне посветить дорогу. Голос у него был хороший: хмельной. Перед подъемом на шоссе он остановил меня:
– Тут осторожней: я шел сейчас и провалился здесь под лед. Нога по колено мокрая. Тебе надо идти вон туда! – Он прочертил лучом направление. – Но прямо не надо, а возьмешь правее!
Я сердечно поблагодарил и взял правее, почувствовав сразу под ногами лед. Следующий шаг мой не нашел опоры, я рухнул в воду, но спасительный инстинкт сделал свое дело: успел бросить котелки и фляги на лед и сам плашмя бросился на него. Я взвыл от тоски и досады. Одежда и сам я в ней представляли самое печальное зрелище. Перчатки, грудь, колени были полностью в грязи, вдобавок одна нога промочена по колено. Стряхнув комья жирной глины с перчаток, нанизал на пальцы ручки котелков, стараясь, чтоб в кашу не попала грязь – поленился взять крышки. В другую руку взял фляги.
– Ах е..! – раздалось отчаянно за спиной.
Я резко обернулся: в полынье барахтался мой провожатый. Через минуту он успешно выскочил наружу: хорошо, не глубоко.
– Вторую промочил! – радостно сообщил он. – Все равно, что одну сушить, что две – по времени одинаково.
Корчась от смеха, я еле заполз на склон, почапал к автобусу. Таким грязным я еще никогда не был. Даже бомжи чище. Я превратился в настоящую свинью. Можно жрать из корыта, утопив в нем свою харю и злобно закрутив штопором ложку.
Подлец Мага долго не открывал дверь. Бок мой сильно болел: я отшиб жизненно важные органы. Теперь буду сикать учительскими чернилами. Еще я сделал маленькое открытие. Я грохнулся потому, что все чистюли соскребали на ступеньках грязь с ботинок. По ней-то я и заскользил.
Все уже спали, и мою кашу ели во сне, едва-едва двигая губами. Саня Иванов зачерпнул две ложки, глотнул чаю и вновь уснул.
Мне стало жутко обидно. Я торопливо проглотил полкотелка – без всякого удовольствия, по необходимости – и отправился к костру. Ребята подвинулись, дали место. Я быстро скинул ботинки, прохудившиеся носки, выжал и нацепил на палочку, которой кругообразно манипулировал над огнем. От моих вещей шел густой пар. Мой провожатый сидел рядом со своими ботинками и грустно смотрел на пламя. Наверное, он протрезвел, вспомнил теплую квартиру, диван с женой. У меня, кстати, был знакомый, так у него диван считался членом семьи. Гостей приглашал, всегда на табуреточках рассаживал, никому не позволял садиться. А кормил сухарями с маргарином. Потом к этому жлобу перестали ходить. А из дивана подлого вылезла пружина и поранила зад супруги. Ей потом уколы от столбняка делали…
Я курил, смотрел на искры и тоже грустил. Волчья у меня жизнь. Никому не нужен, кроме своей матушки. И чего меня судьба занесла сюда? Неужто на небесах считают, что я не навоевался? Что нужно непременно закончить свой путь именно на таком вот простреливаемом поле, черт знает где, с дыркой в жизненно важной голове или другом органе…
Искры летели из костра к небу и звездам, может, хотели соединиться с ними, чтобы замереть и тоже стать вечными и неприступными?
Вдруг что-то вспыхнуло и затрещало на моей голове, люди бросились тушить, стуча меня по голове. Я еле вырвался из-под града ударов, сорвал шапку и в три приема, ударами об землю погасил ее. Резко завоняло. Засмотрелся, видите ли, на небо – попал под искру – и возгорелось пламя… Остатки североамериканского енота пахли жженой шерстью. Я стряхнул пепел. Осталось некое лысое пространство с дурным запахом, который теперь будет преследовать меня еще долгие годы. Мне стали сочувствовать, спрашивали, как звали пострадавшее животное. «Сейчас начнут вспоминать историю молодой девушки, КОТОРАЯ СУШИЛА ВОЛОСЫ НАД ГАЗОВОЙ ПЛИТОЙ», – понял я. Так оно и случилось. Я не стал дослушивать – конец был предрешен, поплелся в автобус. Штаны придется сушить на себе.
Следующее решение возникло внезапно. Я схватил «дипломат», выскочил на улицу.
– Володька, ты куда? – окликнул меня Саня Иванов.
– Да тут… к москвичам схожу, – замешкался я с ответом, не ожидая, что на мой уход кто-то обратит внимание.
– Вещи-то оставь…
– Ну я, может, у них поселюсь. А то вас стесняю.
– Ну ты брось это… – сурово заметил Сашка Черный. – У нас т а к и е вещи не приняты.
Я согласился, но все равно улизнул. И отправился не к каким ни москвичам, а прямиком в село. Но рванул не через позиции, а взял резко правее, через кусты да камыш. Заходящее солнце освещало мой торный путь, я переправился через два арыка, умудрившись не промочить ноги, на третьем провалился. Черные окна села следили за неясной фигурой с чемоданчиком – заблудившийся школьный учитель; я ощутимо чувствовал, как прорезь прицельной планки совмещалась с мушкой и моей головой. Я двинул по центральной улице, жизнерадостно разминая грязь. От стены ближайшего дома отделились двое в черных масках.
– Стой!
Они заставили меня встать у стены, упереть в нее лапы.
– Чего тебе здесь надо? – спросили они, тщательно изучив мое редакционное удостоверение.
– Поговорить с Шамилем.
В неровных прорезях масок глаза боевиков были почти волчьи. Возможно, это свойство черного цвета.
– Пошли. Если он согласится… А если нет – тебя все равно придется шлепнуть.
И меня слегка подтолкнули, словно я сопротивлялся.
Дешевые понтовики…
Я захлюпал по грязи мертвой улицы. Уже совсем стемнело. Было жутко от мысли, что люди, которые шли за мной, в своей борьбе подписались на смертный приговор, и теперь, когда жизнь вроде бы закончилась, в самоотречении для них уже не существовало ни законов, ни морали, ни правил…
Возможно, они считали себя непревзойденными героями, видели себя в раю, как и подобает храбрейшим воинам Аллаха…
Меня привели в двухэтажное здание. На входе стоял человек в круглой барашковой шапке. Он флегматично глянул на меня, молча уступил нам дорогу. Я успел заметить длинные худые пальцы на автомате. «Стопроцентный афганец», – подумал я. Их отличу всегда, даже если весь наш мусульманский Восток поголовно отпустит бороды и наденет чалмы.
Меня заставили снять ботинки – впервые за последние дни я освободился от обуви. В нынешней ситуации это выглядело комично. Чужой дом, в котором и хозяева были чужаками. Споткнувшись в темноте о порог, шагнул в комнату. Меня снова дружелюбно подтолкнули. В просторной комнате светила керосинка. Несколько мгновений я озирался. Человек шесть сидели, поджав под себя ноги. «Я должен им понравиться!» – мелькнула не свойственная мне мысль – приобретенная уже от новой профессии.
– Товарищ старший лейтенант, а может, майор? Какая неожиданная встреча, уважаемый Владимир Иванович!
Я вздрогнул, черт побери, никто меня не называл так с 1992 года, когда на далекой станции Расторгуевка, в гнусной харчевне встретился случайно с Ваней Корытовым.
Человек, откинувшийся на подушку у стены, впился в меня глазами. Борода буквально от глаз, нервное подрагивание четок в смуглых руках. Тысячи лиц промелькнули в кладовой моей памяти. Эти глаза с прищуром – где их видел? Что-то зыбкое, далекое ускользало, не ухватишь.
– А вы не изменились… Что ж это госбезопасность прибегает к таким дешевым трюкам – посылать агентов под видом журналистов? Владимир Иванович, в Афгане вы были честнее!
У меня выступила испарина.
Гримасы судеб в истории изломанной страны… Я узнал бородача – передо мной сидел лучший снайпер моего взвода, командир второго отделения Шома Раззаев.
– Как ты мог, Шома, вляпаться в это дело? – только и вымолвил я.
Видно, на моем лице отразилось такое потрясение, что Раззаев не нашелся, что еще добавить в мое обвинение.
– Вы не знали, что это именно я провел акцию мести?
– Не знал. А если б кто сказал – не поверил… – Что еще я мог сказать одному из своих лучших сержантов?
– Возможно. Но как вы можете доказать, что не засланы КГБ?
Я отметил, что голос у моего Шомы-Шамиля стал другим. Голос человека выдает его возраст и характер. Теперь Раззаев мог только угрожать.
– Я давно уволился. Да и погранвойска теперь не входят в ФСБ.
Я нес полную ерунду, оправдывался перед бывшим подчиненным, для которого был богом. Но времена меняются, с богов осыпается позолота. Совершенно чужой человек, террорист Раззаев был хозяином положения.
– Вот как? – позволил он себе усмехнуться.
Я протянул ему удостоверение газеты.
– Садитесь, – предложил он и стал изучать мой документ.
– Благодарю. – Я не стал садиться. Меня тошнило от этой ситуации. Знал бы, что ровно через семь лет произойдет подобное, что гонористый Шома, которого дрючил за вывихи в командирской практике, будет допрашивать меня, развалясь на подушках?.. А хотя что бы мог сделать: послать на мины, превратить его воспитание в единый непрерывный процесс? Тогда все мы были другими, а национальные гены еще дремали…
Видно, что-то шевельнулось в Раззаеве. Он поднялся, за ним вскочили другие боевики.
– Неужто думаешь, что твой бывший командир унизится до того, чтобы жалко врать перед подчиненным? Ты забыл Афган, ты забыл наше фронтовое братство, ты безвозвратно изменился.
– Оставьте нас двоих! – негромко приказал Раззаев.
Когда все вышли, Шамиль, нахмурившись, выдавил:
– Простите меня, Владимир Иванович. Я не наглец, как вы думаете, хоть и не предложил сесть своему командиру. Ничего я не забыл. Просто многое изменилось. Вы сами это знаете. Знали бы вы, как мне сейчас нелегко… А вы всегда понимали меня…
В какой-то момент мы чуть не шагнули в объятия друг другу. Но я не сделал первого шага.
– Очень странно видеть тебя в этой роли. Ты был храбрым бойцом. Зачем тебе нужно испытывать смелость в этом гнусном деле? Тебя не выпустят живым. Поверь мне…
– У меня своя вера! – жестко оборвал меня Шамиль. – Мне тоже странно видеть вас в этой роли. Журналистам не доверяю… Спрашивайте, что хотели для вашей газеты, раз пришли.
– Газета подождет! – перебил я его напористую деловитость и почувствовал, как он подобрался, знать, вспомнил, сколько металла в моем голосе приходится на одну команду. Рефлекс солдата на голос командира – это остается на всю жизнь. – Я не собираюсь вести с тобой переговоры. Но скажи мне, ты вымазался по уши в крови, перестрелял мирных людей, взял заложников, – что ты этим доказал?
Шамиль полыхнул взглядом:
– Это был единственный шаг, последнее средство. Иначе мы не можем отомстить за страдания нашего народа, остановить федералов. Москва хочет сделать нас рабами…
– Остановись, что ты говоришь? Я в Афгане хотел сделать тебя рабом?
Пропагандистские штампы выключают или сознание, или выдержку.
– При чем тут вы? – скривился Шамиль.
– Сейчас ты мне будешь рассказывать историю кавказских войн и несправедливостей, а я в ответ – о грабежах поездов, банков, фальшивых авизо, о детях-заложниках, о том, как все бандиты спокойно укрывались на вашей территории…
– Это долгий и бесполезный разговор, – нехотя согласился Шамиль. – Извините, но мне надо отдать распоряжения командирам.
Я кивнул. Растут мои подчиненные! Сам воспитывал, учил науке воевать. Чтоб мои мозги отсохли за такую учебу…
– Мне надо куда-то выйти?
– Не надо. От вас у меня секретов нет. Ведь вы учили меня «ратному мастерству»…
Деликатные речи в идиотской ситуации.
Вошли обросшие бородами, как хиппи, командиры. В отличие от «детей цветов» смыслом жизни их была не любовь, а месть и ненависть. Каждый из них скользнул по мне зазубренным взглядом. Они не знали смысла нашего разговора и с одинаковым равнодушием могли по приказу Шамиля отпустить меня или расстрелять. Так, по крайней мере, мне показалось.
Я сидел по-восточному – скрестив ноги.
Шамиль глухо сказал по-русски:
– Владимир Иванович Раевский – мой командир по Афгану. Это смелый и честный человек. На той войне он никогда не делал подлостей, хотя сама война была подлая. Пусть простят меня мои друзья, афганские моджахеддины, которые сейчас вместе с нами. Наше дело, слава Аллаху, теперь единое. Если мой командир не изменил себе и останется честным и в этой непростой ситуации, мы, с общего согласия, можем оставить его среди нас. Если собравшиеся не против.
Бородачи молча согласились.
– Владимир Иванович, – продолжил Раззаев, – мы хотим, чтобы вы постарались понять, что мы не убийцы и террористы, не бандиты, а люди, которых послал наш народ, чтобы защитить и остановить его истребление. Если вы поклянетесь, что не напишете и не произнесете ни слова неправды, можете остаться среди нас, сколько пожелаете. Если нет – то лучше уходите, и пусть бог будет вам судья.
– Ты опять нехорошо сказал, Шамиль, и теперь перед своими друзьями. Значит, ты посчитал, что твой былой командир может врать. Тогда мне лучше сразу уйти. Конечно, если ты не оставишь меня в заложниках после моих слов.
Шамиль вспыхнул, командиры молча наблюдали эту сцену.
– Вот мой телефон спутниковой связи, – он кивнул на столик, на котором стоял раскрытый чемодан с клавиатурой. – Можете звонить своему редактору.
И как журналист, я не преминул использовать такую возможность.
Шамиль, как и следовало ожидать, перешел на родной язык.
Я набрал код Москвы, писк, гудки, голос шефа, рядом, будто из соседнего дома.
– Володька, родной, как там, не мерзнешь? Ты уж прости меня, что так получилось… Где ты, откуда звонишь?
– Я у Шамиля… – Я глянул вопросительно на Раззаева, прикрыл рукой трубку: – Говорить, что ты мой бывший подчиненный?
Он кивнул.
– Ты в заложниках? – спросил тревожно Сидоренко. Я представил его, грузноватого, как он оперся рукой о стол, подался вперед.
– Нет, – ответил я. – Шамиля я знаю. Это мой лучший сержант по Афгану, когда я был там командиром взвода.
– Да что ты говоришь?!
Дальше я стал рассказывать, как перешел линию фронта, о заложниках, которые, по словам Шамиля, живы и здоровы.
– Вот сейчас он говорит, что мы вместе пойдем, и я все сам увижу.
– Можешь что-то сказать о наших войсках? – спросил Сидоренко и осекся. Я почувствовал, как на другом конце провода он прикусил язык.
И у бывалых журналистов, случается, вопросы летят дальше здравого смысла.
– Войска окружили село. В планы командования не посвящен.
– Да-да, конечно, – поспешно ответил шеф. – Можешь дать трубку Шамилю?
– Мой редактор хочет задать тебе несколько вопросов, – я повернулся к Шамилю.
Он молча взял трубку, выслушал вопрос и запальчиво стал говорить уже известные мне вещи, требовать на переговоры премьера, угрожать новыми акциями мести.
Закончив тираду, он попросил меня выйти. Минут двадцать я стоял в коридоре, размышляя о странностях восточного гостеприимства, потом дверь скрипнула, в ломаном луче возникла фигура. Она сказала:
– Пошли со мной!
Боевик повел меня по улице.
– Мы идем к заложникам? – спросил я.
Сопровождающий не ответил. Это навело меня на мысль, что дружеское расположение Шамиля закончилось. Восточные люди непредсказуемы. Когда Шамиль был моим подчиненным сержантом, он был вполне предсказуем. Потому что предсказателем являлся я. По крайней мере, его ближайшей судьбы. А сейчас Раззаев хочет обмануть весь белый свет. И пока это получается. Все готовились к варианту наподобие Буденновска. Он вырвался на оперативный простор и до сих пор не идет ни на какие уступки. Ему доставляет удовольствие держать в напряжении тысячи людей в этих глухих полях под замерзшим небом. А еще сотни миллионов пялятся на экраны в своих пропахших котлетами квартирах, ждут, что еще выкинет лихой Шамилек, вырвется ли, обманет в очередной раз русских…
Из тени дома выплыл боевик, окликнул моего провожатого:
– Салман!
Тот что-то сказал ему, и мы пошли втроем.
– Здесь будешь ночевать! – сказал провожатый. – Выходить из дома нельзя.
Я мысленно поздравил себя: теперь у Шамиля на одного заложника больше. У дверей остался второй боевик, кажется, его назвали Джамалем. Я попытался заговорить с ним, но ничего не вышло. Он молчал, как истукан, как минарет, как глинобитный дувал. В конце концов я догадался, что он не то что не хочет говорить, а не может, так как ни фига не понимает по-русски. «Он, наверное, араб. Или сириец», – прозорливо догадался я. И оказался прав.
Поднявшись по ступенькам крыльца, толкнул дверь, шагнул в темноту. Пахнуло человеческим жильем. Я чиркнул зажигалкой, пламя высветило переднюю комнату: в углу плита, кухонный шкаф, на полу – циновки. Меня потянуло снять ботинки, но воздержался: стоял собачий холод. Я небезосновательно решил, что во второй комнате должно быть теплее – и в некотором роде оказался прав. Потому что тепло очагу несет не огонь, а присутствие человека.
– Вы кто? – спросила темнота настороженным женским голосом.
До чего обожаю подобные ситуации! В доли секунды в моей голове промелькнули варианты ответа: «Конь в пальто!», «Мужчина вашей мечты», «Лицо кавказской национальности», «Член КПСС»…
Но отозвался скромно и без выпендрежа:
– Раевский, мадам! К вашим услугам.
Что-то фыркнуло. Я снизу подсветил свое лицо, зная, что такое освещение всегда привносит особый шарм.
– Небось, еще и граф? – спросили меня иронично.
– Нет. Столбовой дворянин… Из-за своей фамилии я часто попадаю в натянутые ситуации. Мне не верят.
Я шагнул к источнику звука, с опаской держа перед собой огонечек. Кто знает, какой крокодил вылезет из угла. Приятный голос – последний шанс уродины.
В кресле сидело белокурое создание с короткой походной стрижкой. Такие носили наши бабушки в разгар классовой борьбы. Неизвестное существо лениво приняло из моих рук редакционное удостоверение, хмыкнуло:
– Как вас угораздило попасть сюда, коллега? Я Ксения Черныш из «Дорожной газеты».
Девушка протянула мне ледяные пальчики, я пожал их, пошутив:
– Вы что – из могилы вылезли?
– Юмор у вас, конечно. Вы – потомственный военный?
– Да, я бывший офицер.
– Сразу чувствуется… Вас поймали? – спросила она небрежным тоном, за которым уже проступало стремление выстроить барьерчик.
– Сам пришел.
– Я вот тоже. Еще в Кизиле предложила себя в качестве заложницы. Шамиль обещал, что ни один волосок не упадет с моей головы. Я у него три месяца назад брала интервью. Так что, – девушка сделала загадочную паузу, – если вы будете вести себя не по-джентльменски, я пожалуюсь, и вас расстреляют…
– Вы идейная боевичка или вам отстегивают, когда вы пускаете в газете слюни о благородных бандитах?
– А вы шуток не понимаете, – убежденно произнесла Ксения.
– Странный юмор… Не знаю, на кой черт меня сюда привели. Наверное, тот болван ошибся домом.
– Ошибаетесь вы. Шамиль сознательно свел нас вместе. Чтоб мы пообщались и пришли к согласию во взглядах. Консенсусу. А может, чтобы написали репортаж двумя перьями.
– Не надейтесь.
– Вы недооцениваете себя! – серьезно заметила Ксения.
– Вы хотели сказать – переоцениваю?
– Именно недооцениваете! Например, из вас мог бы получиться хороший сторож, милиционер. А вы прозябаете в журналистах…
– У вас все такие снобы в вашей «Дорожке»?
– Ради бога, на обижайтесь! – Она усмехнулась, тон ее потеплел. – У журналистов приняты взаимные подначки… Признайтесь, вы ведь не больше года на этой профессии?
– Две недели, – честно ответил я.
– И вас отправили в такую опасную командировку?
– Девушка. – Я стал терять терпение от ее покровительственного тона. – Ксюша… Вы в школе учились, когда я уже воевал в Афгане…
– Ах, простите, не хотела обидеть вашу старость.
Я чиркнул зажигалкой, чтобы еще раз глянуть на ее лицо. Серые глаза щурились и смотрели с вызывающей иронией. Слава богу, я знал такой тип женщин. Они быстро остывали, когда к ним угасал интерес. Причем начинали чувствовать себя неуютно. И вот после этого с ними можно было делать что хочешь. В фигуральном, конечно, смысле. И никаких фривольных интимностей.
Послышались шаги, стукнула дверь. Вошел Раззаев – узнал его по походке. Луч фонаря скользнул по нашим лицам. Он поставил его на попа, на потолке замер размазанный серый круг. Мы могли теперь различить лица друг друга.
– Извините, но лучших условий создать не могу, – заговорил глухим голосом Шамиль. – Чертовы федералы отрубили электричество, думают, что мы тут одичаем. Ничего, завтра, если сунутся, дадим им крепкий бой.
– А что – стало известно, что войска пойдут в наступление? – спросила Ксения. Голос ее слегка дрогнул.
– Есть непроверенные сведения, – уклончиво ответил Раззаев. – Я тут вам принес покушать. Извините, что скромно, но больше ничего нет. Делимся поровну с заложниками. Впрочем, мы считаем, что они наши гости.
– Гостей под дулами автоматов не водят… – заметил я. От такой демагогии просто тошнило.
– Я говорю о принципе отношения к людям, которых мы вынуждены были временно захватить. Завтра будете говорить с ними, люди все расскажут, как мы относимся к ним, обижаем ли. Я приказал, если кто женщину пальцем тронет – расстреляю. У нас самих четыре женщины воюют… Мы за полную справедливость. За это можно потерпеть, жизнь не жалко… Вот, Ксения, человек сидит, которого я очень уважаю, он мой командир… Он не даст соврать.
– Ваш командир? – удивилась девушка.
– Да! Разве Владимир Иванович не сказал? Да, командир по Афганистану, по той войне.
– Так вы специально встретились? – не унималась Черныш. Она завозилась, кажется, суетливо нащупывала диктофон.
– Случайно, – кратко ответил я, дабы у коллеги не возникало никаких иных мыслей.
– Какая удача! – восхищенно произнесла она. – Если вы, конечно, не разыгрываете меня.
И Шамилю, и мне, стоящим на разных полюсах, страшно далеко друг от друга, только и нужно было сейчас разыгрывать эту вертихвостку.







