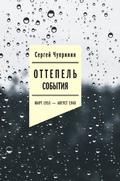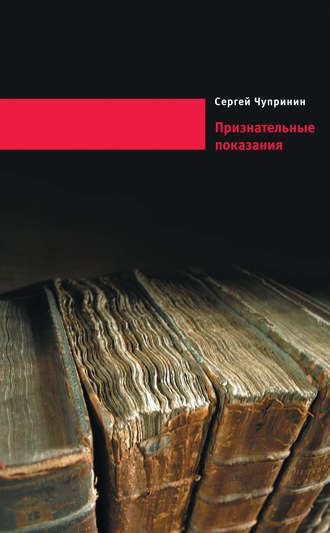
Сергей Чупринин
Признательные показания. Тринадцать портретов, девять пейзажей и два автопортрета
2
А теперь нам придется вернуться к самому началу и в другом, что ли, аспекте поговорить о писателе, навлекшем на себя великие беды ввиду собственного несносного характера и собственной неблагодарности.
Только ли в них дело? Или, может быть, корень в том, что Успенский с годами действительно отрекся от идеалов вольнолюбивой юности, предал заветы радикально-демократического лагеря, переметнувшись в стан «охранителей» и ура-патриотов, вроде князя Мещерского или сотрудников «Развлечения»?
Выпущенные в конце 1980-х годов однотомники избранных произведений Успенского позволят, я думаю, современному читателю убедиться в том, что, изменяясь, конечно, в частностях, в деталях, мировосприятие и творческая манера писателя в целом и главном сохранили удивительную устойчивость. И в «Егорке-пастухе», и в «Народном печальнике», и в «Небывалом случае», и в других произведениях, созданных в семидесятые годы, Успенский по сути тот же, что и в «Хорошем житье», «Змее», «Сельской аптеке», печатавшихся в «Современнике» и прославленных «Современником». Тот же, во всяком случае, насмешливый, злоязыкий юмор. Та же точность бытовых примет и речевых характеристик. То же тяготение к гротеску, к сатирической гиперболизации «свинцовых мерзостей» российской действительности второй половины ХIХ века.
И та же беспощадная, безыллюзорная правдивость.
Вот в ней-то, кажется, а совсем не в присочиненном «ренегатстве», – существо писательской драмы Николая Успенского. Недаром ведь Чернышевский, начав свою знаменитую статью 1861 года с вопроса:
«Чем г. Успенский привлек внимание публики, за что он сделался одним из любимцев ее?» —
так ответил сам себе:
«Нам кажется, что причиною тут не одна бесспорная талантливость, – мало ли было произведений, написанных с талантом и все-таки не возбуждающих ни малейшего участия к себе? Есть у г. Успенского другое качество, очень сильно нравящееся лучшей части публики. Он пишет о народе правду без всяких прикрас».
В чем же состоит эта «правда без всяких прикрас»? В том, что, по глубокому убеждению Успенского, российское крестьянство в массе своей, за вычетом немногих исключительно даровитых натур, то ли не вышло еще из состояния первобытной дикости, то ли замордовано уже до полной идиотичности, до вытравления хотя бы рудиментарных признаков умственной, духовной и нравственно-культурной жизни. Его интересы, как утверждает писатель, всецело связаны с мечтами о том, как бы прокормиться, и, еще в большей степени, что бы такое из домашнего скарба снести кабатчику в обмен на косушку или осьмушку «очищенной». Любовь в этой среде сплошь и рядом сводится к грубому блуду, набожность – к варварским суевериям, а художественный инстинкт проявляет себя разве только в пьяных песнях да россказнях о шатающихся по ночам мертвецах. И – никаких перспектив, никаких порываний к лучшей доле; те мужички, что описаны Успенским, сами отволокут любого «смутьяна» или «агитатора» к становому, с враждебной опасливостью относясь даже к тем из деревенских, кто, подобно героине рассказа «Колдунья», попытается своим трудом, своими силами выбиться из застарелой нужды.
Под стать мужикам и сельские «интеллигенты», если это слово, даже взяв его в иронические кавычки, можно применить к приказчикам и священникам, пpичетникам и фельдшерам, прасолам и целовальникам. Разница лишь та, пожалуй, что тут еще явственнее сказывается «жеребячья порода», виднее развращенность, скудоумие, кичливость, нагляднее тяга к накопительству. Попадаются, конечно, в общей массе и те, кто посмышленее, побойчее, но их активность, лишенная какого бы то ни было нравственного стержня, направлена исключительно на то, чтобы разбогатеть, «окулачиться» – за счет нещадно спаиваемых крестьян (рассказ «Хорошее житье») или за счет столь же нещадно объегориваемых «господ» (повесть «Федор Петрович»).
А сами «господа» – как дореформенные, так и пореформенные? Прочтите «Деревенскую газету» и «Из дневника неизвестного», «Федора Петровича» и «Сашу», «Деревенский театр» и «Издалека и вблизи», «Родственное свидание» и «Небывалый случай» – разве под наносным слоем «благовоспитанности» и «просвещенности», пусть даже на прогрессистский манер, не торжествуют в точности такие же развращенность, апатия, недомыслие, что и в простонародной среде, только тут эти качества выглядят еще гаже, ибо они породнены с праздностью, сытостью и бесконтрольным своеволием?..
А теперь попробуем вообразить, как эти «очерки народного быта» читались публикою, чьи представления о крестьянах были связаны с Антоном-Горемыкой Григоровича, Хорем и Калинычем Тургенева, с дворовыми людьми, о которых рассказывали Аксаков в «Семейной хронике» в «Детских годах Багрова-внука», Толстой в автобиографической трилогии. Какие ощущения испытывала публика, понимая, что в кругу описанных Успенским хоботовых, загвоздкиных и галкиных не приживутся, да и не могут прижиться, ни рудины, ни лаврецкие, ни иртеньевы?..
Шок – вот слово, которое приходит на ум, когда знакомишься с откликами современников на первые публикации Николая Успенского (они, заметим кстати, вообще были едва ли не первым словом писателей-разночинцев в русской литературе – произведения Слепцова появились в «Современнике» лишь в 1862 году, Помяловского, Левитова и Решетникова – в 1864-м, а Глеба Успенского – в 1865-м).
Достоевский в статье, специально посвященной «Рассказам» 1861 года, мог, конечно, указывать, что Успенский, как верный описыватель народного быта, «явился после Островского, Тургенева, Писемского и Толстого» и потому «цена ему теперь совсем не та». Но Достоевский же и признавал, что, если предшествовавшие Успенскому «замечательные писатели» «заявили в литературе сознательно новую мысль высших классов общества о народе», то в произведениях Успенского народ едва ли не впервые, может быть, сам сказал о себе правду, и правда эта была такая, что «хуже всякой лжи». Во всяком случае, она резко контрастировала и с крепостническими иллюзиями насчет богобоязненных, преданных престолу и господам, трудо– и чадолюбивых мужичков, которым под барскою опекой гораздо уютнее, покойнее, чем на постылой воле. И с призывами Льва Толстого учиться у крестьянских детей нравственности и подлинной культуре. И с надеждами на скорую крестьянскую революцию, которая принесет стране конституционные свободы. И с распространенным в обществе мнением о том, что русский народ уже созрел для деятельности на социально-историческом поприще.
От соблазна обвинить Успенского в «неправдивости», в сознательном искажении истины о народе критики на первых порах воздержались: слишком силен был вызываемый его рассказами «эффект присутствия», слишком велико доверие к знанию жизни, непринужденно продемонстрированному молодым писателем. Зато с характерной для русской общественно-литературной традиции непременностью тут же возник вопрос: зачем? Зачем писатель из народа так оскорбительно, с такими душераздирающими подробностями, с такою будто бы даже озлобленностью – вот, мол, вам, и еще, и еще! – говорит о народе? Что он хочет этим сказать? К чему призывает?..
«Старуха», «Поросенок», «Змей», «Обоз» никак вроде бы не поддавались однозначной идеологической интерпретации в категориях «левизны» – «правизны», «прогрессивности» – «реакционности», и в первых же отзывах критики писатель, заподозренный в «общественном индифферентизме», был зачислен в разряд бытописателей-фотографов, с холодным и бесстрастным равнодушием фиксирующих «мелочи жизни», не умея, по словам А. М. Скабичевского, при этом «отличить глубоко раздирающего стона бедняка от уличного крика пьяницы».
«Он приходит, например, на площадь, – сердито писал об Успенском и Достоевский, – и, даже не выбирая точки зрения, прямо, где попало, устанавливает свою фотографическую машину. Таким образом все, что делается в каком-нибудь уголке площади, будет передано верно, как есть. В картину войдет, естественно, и все совершенно ненужное в этой картине или, лучше сказать, в идее этой картины. Г-н Успенский мало об этом заботится… Если б из-за рамки картины проглядывал в это мгновение кончик коровьего хвоста, он бы оставил и коровий хвост, решительно не заботясь о его ненужности в картине».
Применительно к писательской манере Успенского характеристика, данная Достоевским, в общем-то справедлива. Предвосхищая позднейшие эксперименты писателей-натуралистов (а начиная с Чехова – и реалистов) по детализированному, мнимо бесстрастному воспроизведению «мелочей жизни», по «граммофонному», как выразился Корней Чуковский, способу записи и передачи живой разговорной речи, Успенский действительно кое в чем отступил от традиций высокой русской классики с ее преимущественным вниманием к психологическому миру личности, с ее «указующим перстом», нацеленным в самую сердцевину общественного бытия, с ее, наконец, поистине завораживающим искусством соединять «поэзию и правду» в пределах емкого и цельного художественного образа.
3
По части «поэзии» Успенский, незачем скрывать, заметно уступает своим великим современникам, но разве, спросим впрямую, одной только «правды» – чистой, беспримесной, не офальшивленной грубой тенденциозностью – мало для того, чтобы писателю было воздано должное – пусть не как врачевателю и исцелителю общественных язв, но хотя бы как их безжалостному диагносту?
Выходит, мало. «Правда» Николая Успенского о забитом, пpитерпевшемся к своим несчастьям, бездеятельном и бездуховном простонародье только раз пришлась ко времени: на рубеже пятидесятых – шестидесятых годов, когда общественное мнение было наэлектризовано толками об освобождении крестьянства и когда публицисты «Современника», поддерживаемые революционно настроенной молодежью, били во все колокола, надеясь разбудить народную волю и народный гнев.
Вот тогда-то Некрасов и схватился за безыскусные, казалось бы, «очерки народного быта». Вот тогда-то идеолог радикальной демократии Чернышевский и написал свою знаменитую статью, воспользовавшись рассказами Успенского как поводом к разговору, как материалом, свидетельствующим о том, что крестьянская масса уже доведена до крайнего отчаяния и что нужно лишь поднести зажженный фитиль, чтобы рванули пороховые погреба слежавшейся за века классовой ненависти.
Энергично доказывая эту мысль, Чернышевский, не вдаваясь, впрочем, в эстетические тонкости, оспорил почти все упреки, которые предъявлялись (да и впоследствии будут предъявляться) автору «очерков народного быта». Писатель искусственно принижает и тем самым унижает своих героев? Вот уж, по мнению критика, неверно: заслуга Успенского как раз
«в том, что он говорит о мужиках без церемоний, как о людях, которых он сам считает и читатель его должен считать за людей, одинаковых с собою, за людей, с которыми можно говорить откровенно все, что замечаешь о них».
Писатель, не скрывая темных и «низких» сторон крестьянского быта и патриархальной морали, говорит «о народе бог знает что, жестоко оскорбляющее нашу сантиментальную симпатию к нему»? И правильно делает, ибо вошедшее в либеральную привычку идеализирование мужика, по словам Чернышевского, действительно «прекрасно и благородно, – в особенности благородно до чрезвычайности. Только какая же польза из этого – народу», – и не полезнее ли вскрыть гнойники беспощадным скальпелем, чем покрывать их сусальным золотом?..
И последний упрек – в том, что Успенский выводит на первый план не героев, не яркие в своей нравственной неординарности натуры, а, что называется, «серую скотинку».
Чернышевский поначалу вроде бы соглашается: да, среди персонажей Успенского почти исключительно «люди дюжинные, люди бесцветные, лишенные инициативы», – но затем и этот факт оборачивает к выгоде для писателя: в том-то и существо дела, что даже
«в жизни… дюжинного человека бывают минуты, когда нельзя его узнать, так он изменяется или порывом благородного чувства, или мимолетным влиянием чрезвычайных обстоятельств, или просто наконец тем, что не может же навек ему хватить силы холодно держаться в неприятном положении».
Придет час, и близкий уже час, уверен Чернышевский, и эта самая рутинная, пошлая масса выдвинет своего Вильгельма Телля, своих героев, вождей и трибунов!..
Давали ли напечатанные к тому времени произведения Николая Успенского повод к такого рода «подрывной» интерпретации? Положительный ответ здесь, наверное, возможен, но с весьма и весьма существенными оговорками.
Будучи по своим убеждениям «коренным» демократом, причем настроенным в высшей степени критически по отношению и к правительству, и либеральной вере в возможность благодетельных «реформ сверху»[4], Успенский вместе с тем никак не может быть назван революционером. Идее крестьянской революции он не сочувствовал потому, прежде всего, что не верил в ее осуществимость, не верил в способность народа подняться на борьбу за свое освобождение, и не случайно Чернышевский завершает свои исполненные энтузиазма размышления о выводах, на которые будто бы наталкивают «Рассказы» 1861 года, сомнением: «…Как понравится наша статья г. Успенскому?» – и сам же себе отвечает: «Она решительно не понравится ему…».
Мы не знаем, как отнесся Успенский к прославившей его статье «Не начало ли перемены?». Но с полной уверенностью можно утверждать, что он не смог или, точнее, не захотел стать литературным знаменем, первым беллетристом радикально-демократического лагеря. Будь иначе, он дал бы, надо думать, укорот своим денежным претензиям в эпизоде с Некрасовым. Будь иначе, и издатели «Современника», наверное, нашли бы способ сохранить Успенского в числе ближайших авторов журнала.
И тут наводит на размышления то обстоятельство, что разрыв писателя с журналом совершился в дни, когда даже самым последовательным радикалам становилась ясной иллюзорность надежд на скорое и победоносное революционное потрясение. В кругу «Современника», да и в других слоях передовой интеллигенции, начался интенсивный поиск альтернативных идеологических вариантов и – пропагандистская надобность в той правде, которую говорил о народе Успенский, попросту отпала.
Он всюду оказался чужим.
И среди консерваторов, инстинктивно чуявших, что произведения Успенского по своему объективному смыслу камня на камне не оставляют от устоев «православия, самодержавия и народности».
И среди либералов-реформистов, обескураженных едкостью, с которою Успенский высмеивал как всякого рода «преобразования» в сфере народного просвещения, здравоохранения, судопроизводства, так и саму идею барской опеки над народом.
И – это в особенности – среди стремительно утверждавшихся в отечественной печати народников. Они благоговели перед «исконной» народной мудростью, верили в нерушимое нравственное здоровье простолюдинов, готовы были пойти на выучку к мужику – а Успенский, словно бы нарочно, все множил и множил в своих рассказах разного свойства «уродства» и «вывихи», демонстрировал симптомы тяжкой болезни, от которой нелегко будет избавиться даже лучшим представителям крестьянского «мира». Они возлагали все свои надежды на сельскую общину как на прообраз «чисто русского социализма» – а Успенский показывал, что, во-первых, община уже разлагается, выделяя из себя кулачье, мироедов, а вo-вторых, и в нынешнем своем, полупатриархальном состоянии она держит бедноту в рабстве не меньшем, чем крепостное.
И тогда Успенского назвали клеветником.
«В его рассказах, – писал плодовитейший из критиков-народников А. М. Скабичевский, – народ представляется в невообразимо безобразном виде: каждый мужик непременно вор, или пьяница, или такой дурак, каких и свет не производил; каждая баба такая идиотка, что ума помрачение… Что удавалось Н. Успенскому мельком увидеть или услышать, он передавал в сыром и конкретном виде, с единственной целью показать, как русский мужик невежествен, дик, смешон, загнан и забит, как тонет он в грязи невежества, суеверий, пошлости. Забитость, тупоумие, отсутствие всякого человеческого образа и подобия в героях Николая Успенского одуряют вас, когда вы читаете его очерки».
Вот это-то продержавшееся в печати несколько десятилетий мнение об Успенском как о человеке, злонамеренно будто бы оклеветавшем русский народ, и погубило окончательно доброе имя писателя в глазах широкой дореволюционной читательской аудитории. Критика и шедшая вслед за нею публика рассуждали о народнической прозе П. Засодимского, Н. 3латовратского, Г. Успенского, Н. Каронина-Петропавловско го, выясняли свои отношения с авторами «антинигилистических» романов (А. Писемский, Н. Лесков, В. Крестовский), спорили сначала о натурализме на русской почве (П. Боборыкин, И. Ясинский, Н. Морской), потом о «новом литературном поколения» (М. Альбов, А. Чехов, К. Баранцевич и др.), по традиции были приметливы к новым созданиям И. Тургенева, Л. Толстого, Ф. Достоевского, И. Гончарова, а Н. Успенского словно бы вовсе не брали в расчет.
А между тем талант его, идя в общем-то на убыль, чему, надо думать, способствовало чувство «неуслышанности», «невостребуемости», и во второй половине шестидесятых годов, и в семидесятые годы не раз мощно проявил себя, причем в гораздо более, чем прежде, социально острых и вместе с тем лиричных произведениях.
Успенский написал и опубликовал в «Отечественных записках» повесть «Федор Петрович», едва ли не первым, быть может, в русской литературе обнаружив, что на смену нищающим, сдающим свои социальные позиции помещикам приходят кулаки, кабатчики, сельские «капиталисты», и они-то все последовательнее прибирают деревню к своим рукам.
Критика промолчала.
Успенский с сатирической меткостью обрисовал в повести «Издалека и вблизи» типические фигуры русских дворян, потерявших жизненные ориентиры в пореформенную эпоху (здесь и толстовцы, и охотники переустроить хозяйство на «рациональный» лад, и те, кто верит в возможность жить по старинке).
Повесть появилась в солидном «Вестнике Европы», но критика и тут семь лет хранила гордое молчание, пока Н. Михайловский, снисходительно похвалив писателя за то, что его повесть «по замыслу охватывает чрезвычайно интересный мотив современной русской жизни», не поставил ему в вину несочувственность к новейшим «прогрессистским веяниям» и, прежде всего, к распространенному в те годы «хождению в народ».
Успенский рассказал в «Егорке-пастухе» трогательную историю двух любящих крестьянских сердец, показав, как идиллия, пройдя испытание фарсом, обернулась в итоге – благодаря чиновничьему равнодушию и благодаря косности крестьянского «мира» – подлинной трагедией, но и в этом случае ответом писателю было почти полное общественное безразличие.
4
У читателя может возникнуть, пожалуй, впечатление, что произведения Успенского, пережив свой «звездный час», начисто выпали из русской литературы, не участвовали в ее движении и лишь в двадцатые-тридцатые годы нашего века были вновь вспомнены – уже как архивный документ, имеющий исключительно историческое, историко-литературное значение. Так ли это?
Так, да не вполне так. Истинную цену автору «очерков народного быта» знали, прежде всего, великие его современники – русские писатели, и если Тургенев, сопоставляя Николая Успенского с Глебом, утверждал не без личной и вполне понятной неприязненность, что «у Глеба в десять раз больше таланта», то Лев Толстой, по свидетельству мемуариста, говорил как раз обратное: «Я ставлю Николая Успенского много выше превознесенного другого Успенского, Глеба, у которого нет ни той правды, ни той художественности». Нелишне упомянуть и о том, что И. Бунин в начале своего творческого пути замышлял писать биографию Успенского, собирал свидетельства очевидцев и поместил о нем несколько содержательных заметок в тогдашней печати. Или о том, что М. Горький неизменно, хотя и не вполне точно именовал Успенского «родоначальником и зачинателем чисто народнической и народолюбческой литературы».
Дело, впрочем, не только и не столько в благосклонных отзывах. Оказав заметное, никем не оспариваемое, хотя пока и недостаточно изученное влияние на писателей демократического, а впоследствии и народнического лагеря (у него сначала учились, затем с ним спорили, но ведь и полемика есть форма освоения традиции), Успенский исподволь «сказался» во многих и многих классических произведениях, посвященных мужицкой доле и вообще тяжкой участи русского простонародья.
Это относится прежде всего к толстовской «Власти тьмы»[5], к чеховским повестям и рассказам «Мужики», «Новая дача», «По делам службы», «В овраге», где в полемике с утешительными сказочками позднего народничества о мужике – праведнике и «богоносце» сознательно или, скорее всего, неосознанно, опосредованно учтен и опыт забытого, казалось бы, писателя, некогда прославленного своим, как говорила критика, «беспощадным отношением к народу». С еще большей определенностью следы воздействия Успенского обнаруживаются в предреволюционной прозе Горького, Бунина, некоторых других писателей, группировавшихся вокруг издательства «Знание».
И вот тут-то, в соотнесении с получившей дальнейшее развитие традицией, особенно очевидной становится неосновательность и несправедливость тех упреков в «клевете на народ», которые адресовались Успенскому на протяжении нескольких десятилетий. Он действительно больше говорил о мрачных, неприглядных сторонах крестьянского и разночинского быта, нежели о том, что заслуживало поэтизации, светлой грусти. Он действительно, словно бы не замечал или почти не замечал проявлений социального протеста, нравственного противостояния косной среде, рисовал по преимуществу картины духовной спячки, «оскотинивания», варварской грубости в нравах, помыслах и запросах.
Но, говоря так и рисуя все это, Успенский, как подчеркнуто было еще Чернышевским, смотрит на простонародье не со стороны, не как заезжий «французик из Бордо» или скучающий барин в белых перчатках, а как свой, беспримесно родственный этому полуголодному, полупьяному, нищему и несчастному люду – родственный и по крови, и по социальному опыту, и даже по принадлежности к той пресловутой «жеребячь ей породе», которую очевидцы зафиксировали в воспоминаниях о писателе. Для него нет тайн в этой среде, но для него и жизни нет, кроме как в этой среде, и обида, которая душит, озлобляет Успенского, это обида не на народ (так обижались барышни из хороших семей, разочарованные неуспехом своих «хождений» по деревням), а за народ, никак не могущий вырваться из болотной трясины, не почуявший пока – и почует ли? – в себе сил, достаточных, чтобы подняться к вершинам своего исторического предназначения.
Народолюбие Успенского резко враждебно и по отношению к показному преклонению «опрощающейся» интеллигенции перед смиренным богатырем и мудрецом в худом армячишке, и по отношению – тоже незачем скрывать – к нетерпеливым попыткам разбудить дремлющее крестьянское море, вызвать так скоро, как только удастся, подобный урагану «русский бунт, бессмысленный и беспощадный». В его рассказах о России и русских в XIX столетии силен элемент не только социальной критики, но и, если можно так выразиться, «национальной самокритики» – той самой, что надиктовывала образы Плюшкина, Ноздрева и Селифана Гоголю, Обломова и Адуевых – Гончарову, братьев Карамазовых и Смердякова – Достоевскому.
Но все-таки это именно нapoдoлюбие, и чуткий к подобным вещам Достоевский недаром отмечал, что
«г-н Успенский, во-первых, любит народ, но не за то-то и потому-то, а любит его как он есть. Для него все дорого в народе, каждая черта; вот почему он так и дорожит каждой чертой. С виду его рассказ как будто бесстрастен: г-н Успенский никого не хвалит, видно, что и не хочет хвалить; не выставляет на вид хороших сторон народа и не меряет их на известные, общепринятые и выжитые цивилизацией мерочки добродетели. Он и не бранит за зло, даже как будто и не сердится, не возмущается. Сознательный вывод он предлагает сделать самому читателю».
Все это – кажущееся бесстрастие, неявность авторской позиции, доверие к читательской способности самостоятельно сделать «сознательный вывод», небоязнь, наконец, «цинических», «бесстыдных» деталей и сюжетов, если они требуются по условиям художественной задачи, – сильно осложнило взаимоотношения писателя с современной ему критикой. Но это же проложило Успенскому дорогу в двадцатый век, связало его опыты с литературными исканиями новейшей эпохи, и, перечитывая сегодня «Обоз», «Поросенка», «Змея», «Сельскую аптеку», видишь, как отложился юмор Успенского в «пестрых» рассказах Антоши Чехонте, как ожили и заиграли многие приемы, первоначально опробованные автором «очерков народного быта», в «сказовой» прозе двадцатых годов и, в особенности, в сатирах Михаила Зощенко, как лукавые герои-рассказчики Успенского протягивают руку Василию Шукшину с его «Беседами при ясной луне» и «До третьих петухов», Василию Белову с его «Плотницкими рассказами» и «Бухтинами вологодскими…», Борису Можаеву с его «Живым» и «Историей села Брехова…».
Вчитываясь, например, в начальные фразы рассказа «Грушка»:
«Жив еще старичок-то – мой тятенька… ни единого волоска на голове, а тоже иное время пустится в присядку! чуден родитель!.. Когда же захмелеет, то всегда запевает: “Ай ты, молодость… буйная! разинет рот; а там ни одного зуба нет!”»,
или следя за тем, как приказчик флиртует с купеческой дочерью в том же рассказе:
« – Куда, сударыня, гуляете?…
– А вам на что, мон шер?
– Нам, значит, особенной важности мало… осведомиться желательно – не больше того.
– В эвтот раз иду, – говорит, – с гулянья.
– А нельзя ли полюбопытствовать, как ваше имечко?
– Аграфена Власьевна Мурашкина.
– Так-с. Что же вы, Аграфена Власьевна Мурашкина, стало быть, теперича домой отправляетесь?
– Домой, – говорит.
– Ну, а ежели внезапно смеркнется? Не опасно одной вам, примерно, идти?
– Нисколько, наш дом-то вот он.
– Где?
– Вот он.
– Гм… так, следовательно, до свиданья!
– Прощайте-с… А как вас зовут, мусье, – спрашивает она.
– Меня, стало быть, зовут Потап Егорыч Свиньин»,
и просто невольно ахаешь: Зощенко! ну как есть чистый Зощенко!.. И таких примеров, когда сквозь текст «очерков народного быта» как бы проступают водяные знаки более близких к нам по времени и, значит, более знакомых нам писателей ХХ века, можно привести немало.
Одно только существенное уточнение. Было бы непростительной натяжкой считать М. Зощенко или П. Романова, В. Шукшина или Б. Можаева прямыми «наследниками» и «преемниками» Николая Успенского. Очень может быть, что им и не попадались никогда на глаза ни «Поросенок», ни «Гpyшкa», ни «Хорошее житье»; интервалы в два-три десятилетия между очередными переизданиями сочинений Успенского делают вполне вероятной такую возможность. Так что же тогда – случайные совпадения перед нами?.. Нет, скорее типологическая близость, обусловленная тем, что обращение к сходным художественным задачам требует в свою очередь и обращения к в общем-то определенному, санкционированному традицией типу художественных средств, приемов образо– и сюжетостроения, способов обработки живого просторечия.
Или, еще вернее, перед нами следование традиции, которая не одним, конечно, Николаем Успенским завещана, но которая и ему, оставшемуся почти безымянным, обязана очень все ж таки многим. Так бывает в развитой культуре: книги писателя, если он не включен стоустой молвой, преданием в число наших «вечных спутников», уходят со временем как бы на периферию литературного процесса, имя его гаснет в сознании и читателей, и литераторов грядущих поколений, но зерна, оброненные им в родную почву, выживают, идут в рост, и, любуясь обильными всходами, мы не часто вспоминаем, кто же был первым или одним из первых сеятелей.
Но иногда, хотя бы иногда вспоминать нужно. И, оглядываясь на страдальческую, полную мук, горя, заслуженных и незаслуженных обид жизнь автора «очерков народного быта», заново прочитывая избранные страницы его литературного наследия, думаешь и о драматических судьбах талантливых разночинцев в пореформенной России, и о классической нашей литературе, облик которой будет, безусловно, неполон без таких, как он, художников второго ряда, и о той, издревле завещанной нам традиции взыскательной, зрячей, а коли понадобится, то и «беспощадной» любви к своему Отечеству и своим соотечественникам, которой верой и правдой служил писатель Николай Васильевич Успенский.