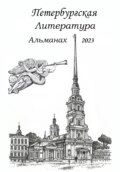Сергей Анатольевич Шаповалов
И умереть мы обещали
Глава первая
Я рос, как и большинство моих сверстников, в спокойной семейной обстановке, имея любящих родителей, двух младших сестёр и степенного гувернёра – француза. Отец хотел приписать меня к дипломатическому корпусу. Видел во мне будущего государственного деятеля и блестящего дипломата. Но я, вопреки его планам, мечтал поступить в морской корпус. Рвался в море. Мне грезились далёкие, неизведанные берега, отчаянный грохот волн, свист ветра в парусах, свобода до самого горизонта…
Однако детство моё окончилось в конце одна тысяча восемьсот одиннадцатого года. И кто же знал, какие испытания нас ждут впереди. Куда нас заведёт судьба. С какими людьми я повстречаюсь, скольких друзей потеряю, а скольких обрету.… А мне всего-то было тринадцать лет отроду.
***
Это произошло в один из тихих зимних вечеров. За окном в быстрых сумерках кружил пушистый снег. С кухни тянуло ароматом жареной утки и печёными яблоками в меду. Я сидел у отца в кабинете, за тяжёлым дубовым столом с точёными ножками. Огромная столешница была обтянута зелёным английским сукном. Ярко горели восковые свечи в бронзовых канделябрах. Тут же стоял письменный прибор из морёного дуба с чернильницей и аккуратно уложенными в пенал гусиными перьями. Бронзовый пресс-папье в виде бюста римского императора Цезаря взирал на меня сурово. Рядом стопка потёртых книг в дорогих кожаных переплётах.
Отец давал мне урок математики. Почему отец? Наш гувернёр месье де Бельте был очень умным и начитанным, но в математике, физике, естествознании он ничего не смыслил, посему папенька сам мне объяснял эти предметы. А вообще месье де Бельте был очень хорошим человеком. Великая французская революция1 вынудила этого безобидного, тихого дворянина покинуть своё имение и бежать с семьёй в Россию. Теперь он преподавал мне французский, немецкий, всемирную историю, географию великих открытий и правила этикета, и даже правила стихосложения. А родитель мой учил меня точным наукам сам вовсе не из скупости. Просто отец служил в министерстве строительства, и посему знал в совершенстве технические предметы. Мы как раз углубились в нудные геометрические вычисления, когда вошёл Прохор, наш лакей. Я подумал: сейчас он позовёт нас к ужину; уж очень есть хотелось, уж очень аппетитно тянуло с кухни. Но Прохор доложил:
– Прибыл гонец от графа Очарова.
Отец вздрогнул и резко встал с испуганно скрипнувшего стула, да так неловко, что качнул тяжёлый стол. Капля чернил сорвалась с моего пера, ляпнув на лист бумаги, прямо туда, где я заканчивал вычисления.
– От кого? – не своим голосом переспросил папенька и побледнел, – От Петра Васильевича?
Он сделал два шага к двери. Прохор посторонился, пропустив в комнату крепкого мужика в сером овчинном тулупе. Тут же пахнуло морозом и конским потом. Мужик был широкоплечий, коренастый. Темные волосы, остриженные под горшок. Густая борода лопатой. Глаза строгие, тёмные, брови густые. Он мял заячий треух в огромных жилистых руках. На ногах заношенные, но ещё крепкие сапоги. Я сразу вообразил себе лесного разбойника или бунтаря с Урала. Наверное, таким был Емельян Пугачёв2. Мужик меж тем степенно поклонился, выпрямился и продолжал молча стоять.
– Степан? – узнал его отец. – Степан Заречный.
– Я, барин. Признали, – пробасил мужик, растягивая гласные.
– С чем пожаловал? Сам Пётр Васильевич прислал? С чего бы?
– Сам Пётр Васильевич, – как-то грустно ответил Степан. Развел руками, как бы думая, с чего начать. – Беда с барином. Приболел. Доктора вызвал из самого Пскова.
– Серьёзно приболел? – настороженно спросил отец.
– Куда ж сурьезней, ежели вас велел кликать. Почитай, четырнадцать годков ничего не хотел слыхивать, а тут – на те – позвал меня и говорит: – Запрягай самую быструю тройку – и в Петербург…
– А доктор? Что говорит доктор, тот, из Пскова?
– А медведь его разберёт, – махнул рукой мужик. – Немчура. У него на русском язык не воротится. Каркает что-то по-своему. Да тут и так все ясно… – Он натужно вздохнул. – Ехать надо.
–Да, конечно. Завтра с утра и отправимся. Ступай на кухню, пусть тебя накормят, – распорядился папенька, сам стал нервно ходить по кабинету, нахмурив брови, и заложив руки за спину.
Лакей Прохор проводил гостя сердитым взглядом, вышел следом и затворил дверь. Послышалось с той стороны его недовольное бурчание:
– Что ж ты, мужик, сапоги-то не отряхнул? Глянь-ка, грязи сколько в дом наволок!
– Ой, и вправду, – пробасил гость. – Ничего. Вон, тряпку возьми и подотри. Для того ты тут и поставлен.
Раздались тяжёлые удаляющиеся шаги. Прохор что-то мычал, шипел. Видать, у него от таких наглых слов язык отнялся. Наконец ему удалось выкрикнуть вслед:
– Да как ты смеешь? Мужичина неотёсанный. Да ты.… Да ты.… В приличном доме. Это тебе не хлев…
– Прохор! – позвал отец. Лакей, красный от гнева, появился в дверях. – Распорядись пораньше подать ужин, да подготовь все к отъезду.
– Слушаюсь, – поклонился Прохор и удалился выполнять приказ.
– Мы едем к дедушке? – удивился я. – Но ты говорил, что ноги твоей не будет в Крещенках до самой смерти.
– Вот она и пришла. Тут не до обид, Сашенька, – отец рассеяно похлопал меня по плечу. – Нельзя злобу держать на того, кто перед порогом к Всевышнему. Надо прощать. Надо!
Он перекрестился на старую иконку, стоявшую в углу кабинета.
***
Немного о графе Очарове, Петре Васильевиче, моем деде. Происходил граф из старого дворянского рода. Предки ещё при Иоанне Грозном3 служили в стрелецких полках. В правлении Петра Великого4 один из пращуров прославился в битве при Гангуте5, когда в составе абордажной команды первым ворвался на флагманский шведский фрегат «Элефант». За героизм и отвагу самодержец Пётр лично вручил ему офицерскую шпагу. В Полтавском6 сражении он уже командовал ротой Семёновских гвардейцев. Был изранен в штыковом бою, но остался на ногах и лично захватил шведский штандарт. Один из его сыновей, мой прадед, служил исправно в гвардии при Елизавете Петровне7. Мало того, в составе роты гренадёров Преображенского полка участвовал в её воцарении. При Екатерине8 имел высокую должность в военно-морской коллегии и успешно продвигал по службе моего деда. Тот поступил в коллегию по градостроительству. Работал вместе с Алексеем Васильевичем Тучковым9. Как-то инспектируя строительство, дед попал под обрушение лесов. Еле жив остался. Долго болел и вынужден был оставить службу. Удалился в родовое имение Крещенки под Псковом. Алексей Васильевич Тучков, бывший в то время уже в чине инженера-генерала-поручика, выхлопотал ему хорошую пенсию. Да и без того семейство Очаровых жило безбедно. Три сотни душ крепостных, леса, своя лесопильная мануфактура. Дед женился на княжне Турлиной, моей бабушке, тоже из псковских дворян. Всего у них родилось пятеро детей, двое из которых умерли в малолетстве. Мой отец – старший, графиня Мария, ныне Преображенова, жила с мужем и тремя детьми в Москве. Самый младший из пятерых, Семен Очаров, и самый беспутный, как считал папенька, служил в Литовском драгунском полку. Как рассказывал отец, бабушка скончалась ещё в возрасте сорока годов от простуды. Дед больше не женился.
Доживши до своих неполных четырнадцати лет, никого из родственников я не видел. А все потому, что мой родитель попал у деда в опалу. Отец выучился и поступил на службу в ту же коллегию, в которой служил дед. Алексей Васильевич Тучков, невзирая на старую дружбу с дедом, давал отцу очень ответственные поручения и спрашивал строго, дабы никто не смел и подумать, что сей отрок продвигается по службе только благодаря блестящей протекции.
Но с папенькой случилась романтическая история. Он повстречал на весеннем балу у Апраксиных10 очень красивую девушку и влюбился без памяти. Маменька происходила из рижских немцев, хоть бедного, но знатного рода, идущего ещё от рыцарей Тевтонского ордена11. Вскоре молодые люди решили обвенчаться, но дед благословения не дал. Мало того – он впал в гнев. Оказывается, за год до этого обещал женить отца на дочери соседского помещика.
– Не желаю я родниться с немчурой, – кричал дед. – Наш род – истинно русский, православный, а они из католиков, и нищие, как церковные крысы. Не бывать сему!
У отца взыграла гордость, и они рассорились с дедом в пух и прах. Но Алексей Васильевич Тучков встал на сторону отца:
– Совсем сдурел Пётр Васильевич! Наверное, белены псковской объелся. Это же надо такое выдумать – немчура! Ну и что? А Екатерина, жена самодержца Петра кем была? А матушка наша покойная Императрица? Да сам он – морда чухонская12, из каких? Все! Я к нему съезжу! Я ему все выскажу…
Но сердобольный Александр Васильевич только еще больше вбил клин вражды между дедом и отцом, да и сам рассорился с бывшим сослуживцем.
– Ничего, – сказал он по приезду обратно в Петербург, – ты, Андрей, служи честно, а я тебе подсоблю. Поживёшь с молодой супругой первое время у меня в доме. Со временем за усердие чин получишь и жалование приличное… А старик перебесится. Позовёт тебя ещё… Вот увидишь.
Вскоре родился я, потом средняя сестра Машенька и младшая Оленька. У нас уже был свой дом в конце Миллионной. Папенька усердно служил. Каждый второй четверг месяца устраивали приём гостей. В общем, жили, как и все семьи средних чиновников Петербурга. Но дед так и не позвал нас ни разу. Приходили, правда, странные гостинцы на Рождество, да на Пасху. Но – ни записочки, ни открытки. И посыльные плечами пожимали: – «Не могу знать от кого. С оказией доставлено».
***
В тот вечер, после приезда Степана Заречного, маменька все вздыхала за ужином: – Как же мы покажемся перед ним? Он же никогда нас не жаловал… Отец её успокаивал: – Ничего страшного. Съездим быстро и вернёмся. Надо простить ему все обиды перед уходом, да нас он пусть простит. Маша беспокойно посматривала то на маму, то на отца. Дёргала меня за рукав и шёпотом спрашивала:
– Сашенька, что случилось?
– Ничего. Отстань. Поедем завтра к деду?
– К какому, Сашенька? Скажи.
– Отстань! Скоро сама все узнаешь.
Младшая Оленька, чувствуя, что на неё не обращают внимания, и разговор за столом серьёзный, долго бычилась, сопела и, в конце концов, разревелась. Ужин не задался.
Наутро, чуть забрезжил серый рассвет, нас уже ждали во дворе широкие сани с кожаным верхом. В кузовке были постелены овчинные шкуры. Степан Заречный сидел на высоких козелках. Красивые орловские кони нетерпеливо били копытами, фыркали, выпуская облачки пара. Дорожные сундуки уже накрепко были привязаны на задке. Я попрощался с моим другом Жаном, сыном гувернёра де Бельте. Хоть он был моим сверстником, но ростом – на полголовы ниже и в плечах неширок. Жан, несмотря на раннее утро, вышел меня проводить. Стоял, кутаясь в пальто, и дрожал от холода.
– Иди уж, досыпай, – отослал я его обратно в дом. – Не на год же едем. Думаю, через неделю вернёмся.
После я заглянул в кузовок, представил, как все здесь усядемся: тут отец, там мама, а напротив сестры и я… Тесновато будет. Поразмыслив, я попросился на козелки.
– Не замёрзнешь? Путь долгий, – предупредил меня отец.
– Морозов ещё нет, – возразил я.
– Садись, барин, – подвинулся Степан. – Вдвоём веселее будет. Только шинелька у тебя жиденькая. Если зазимок проберёт, ты мне скажи, я тебе тулуп свой дам.
– Не замёрзну! – гордо ответил я, взбираясь на жёсткое сиденье.
– Мы готовы, трогай, – крикнул отец из саней.
– С богом! – перекрестился Степан. – Ну-ка! Пошли! – прикрикнул он. Кони тронулись.
Нева ещё до конца не затянулась льдом. Снег лежал на мостовой, укатанный санями. На фоне светлеющего неба выделялся тонкий шпиль Петропавловского собора с ангелом наверху. Степан перекрестился на ангела, вздохнул и фальшивым хриплым голосом затянул детскую песенку:
Ангел белый, Бога вестник,
Ты приди ко мне во сне…
Мне вдруг стало смешно от его неумелого пения. Здоровый мужик, бородатый, хриплым голосом пытается петь детскую песенку, да ещё делает это так серьезно и сосредоточенно. Я не в силах был сдержаться.
– Ну, что вы, в самом деле, барин… – обиженно пробурчал Степан и тут же сам расхохотался. – Не певец я. Что теперь? И в армии по шапке получал, за то, что пел фальшиво. Все строевую хором грянут, а я не попадаю…
–Ты и в армии служил? – я начал проникаться к нему уважением.
– Было дело. А как же? Измаил штурмовал13.
– Вот это да! – подпрыгнул я на месте. – И Суворова видел.
– Так, конечно. Батюшку нашего родненького. Видел.
– Расскажи! – тряс я его за рукав.
– А чего о нем? Маленький, хрупенький, но хитёр был. Построил нас полками перед штурмом, и каждому полку сказал: – У вас, ребятушки, самая важная задача. Не сдюжите, мол, опозоримся перед всей Россеей. Во, мы рванули тогда на штурм… Да, – задумался он.
– А ты? Расскажи, как все было?
– Я же в шестой колонне шёл, под началом Кутузова. Мы штурмовали ворота Килийские. Турок насмерть стоял. Батюшка, Михаил Илларионович, Суворову гонца шлёт, мол, не сдюжим, надобно прекратить штурм и отступать. А Суворов, хитрец, шлёт ему ответ: – Не могу откладывать. Я, мол, уже матушке-императрице доложил, что город взят, да вас комендантом назначил. Ох, как Михаил Илларионович выругался тогда, аж у турок уши завяли, да как погнал нас на стены…
– А я когда тебя увидел, решил, что ты разбойник.
–Я? Разбойник? – мы вновь захохотали. – Ну, барин! А с чего? Борода нечесаная али тулуп широкий?
– Не знаю, – пожал я плечами. – Глаза как у нашего околоточного злые такие были.
– У меня? Злые? – и мы опять расхохотались, сами не зная, чему. Даже отец высунулся из кибитки, посмотреть: все ли в порядке.
– Расскажи о себе, – попросил я.
– Ох, а что рассказывать? Родился в Крещенках. Нарекли Степаном. У барина Петра Васильевича служу.
– А кем?
– А когда кем: когда конюхом, когда дворником, а когда и управляющим. Да. Бывает. Как наш Зигфрид, чтоб его волки съели, захворает, так я за него.
– А кто такой Зигфрид?
–Управляющий, он и есть. Старый немчура. А злой какой. Наверное, от этой злости вечно у него зимой хворь приключается. Лежит на перине красный, как свёкла, да платки пачкает.
– Постой. Так ты говорил: в армии служил.
– Да. В инфантерии14, потом при уланах15 …
– Так сколько же тебе лет?
– А, ты вон про что. Не дослужил – верно. Выкупил меня барин, Пётр Васильевич. Дело такое приключилось: батюшка мой помер, а Пётр Васильевич без него – никуда. Как собирается в Псков или в Москву, так батю моего кликал. Батя из бывших моряков. Да! Строгий был, аккуратный. Не дай бог заметит непорядок какой, так дворовых оттаскает! Одна рука сухая, контуженная, но вторая – что клещи кузнечные. Да как батюшка мой помирал, уж очень просил выкупить меня из армии. Нас пятеро у него было, я – старшой. Как раз под набор рекрутский попал. Пётр Васильевич обещал, и выкупил. Вот не дослужил срок…
– Так сколько тебе исполнилось?
– Так сороковушка стукнула.
– Давно?
– А вчерась.
– Врёшь!
– Вот те, – он перекрестился.
– А чего молчишь! Хоть я тебя поздравлю, – удивился я.
– Господь с тобой, барин, – замахал он руками и нахмурился. – Нельзя сорок годов-то праздновать. Примета дурная.
– Почему?
– До сорок первого не дотянешь. Во как!
– Прости, Степан.
– Да за что?
Он потянулся к сумке, достал трубочку и принялся ее набивать махоркой. Чиркнул кремнем, расчадил, пыхнул едким белым облаком.
– Не обкурю, барин? – спросил он.
– Нет, – замотал я головой. – Кури. – Заметил в сумке газетки, аккуратно свернутые. – На самокрутки взял?
– Нет. Почитать.
– Ты и читать умеешь? – удивился я.
– Умею.
– А кто тебя учил?
– Дьякон наш. Он учил, а отец акзамены принимал. Как даст подзатыльник – быстро все вызубришь.
– Строгим был?
– Батька то? Ох, строгий! Пришел со Шведской с рукой контуженой, но с наградами. Порядки в хате устроил, что в казарме. Строил нас братьев… С утра до вечера работали, да еще у дьякона учились. И попробуй токмо огорчить его. Ух, тяжелая рука оставшаяся. Но…, – он покачал головой. – Любили мы батьку. Разве же он зла нам желал? Вот и я вместо управленца, потому как грамоту и счет разумею. И братья мои все при деле: кто на лесопильне счетоводом, кто в строительстве старшой над артельщиками, младшему барин доверяет торг вести с купцами…
– А Петр Васильевич отца твоего любил?
– Конечно. Работник из него никакой, без руки-то. Так он его ключником сделал. А отец, вояка, такую строгость навел в кладовках да амбарах – все домочадцы взвыли. Все у него было наперечёт, лишней свечи никому не даст. Повар, так вечно с ним бранился, то за чай, то за крупу…
Хмурое утро подсветило низкое небо. Московскую заставу давно миновали. Сани катили лихо. Дорогу обступил густой хвойный лес. Иногда попадались какие-то косые бревенчатые избенки, а вскоре и вообще не чувствовалось присутствие человека. Но ехать было не скучно. Хорошо, что я на козелки залез. Мы со Степаном болтали всю дорогу. Он мне очень понравился. Рассказал много, и не врал. Иногда мы горланили песни, пугая лесную птицу. Певцы из нас еще те, но никто же не слушает, кроме родителей и сестер в кузовке.
К Луге подъехали, когда местная церквушка звонила к вечерне. Ночевали в гостинице при почтовой станции. Кормили отвратительно: щами из кислой капусты и перловой кашей с жирной бараниной. Чай какой-то горький и едва темный. В спальне было холодно, хоть и печь пылала березовыми поленьями. Младшая Оленька долго хныкала на руках у маменьки, пока не заснула. Тараканы шуршали. Попискивали мыши. Обленившийся серый кот не обращал внимания на их писк. Мирно дремал у печи, свернувшись клубком.
Наутро вновь двинулись в путь.
– В Псков будем заезжать, барин? – спросил Степан.
– Давай напрямки, – предложил отец. – Болота, наверное, подмерзли. Проскочим.
– Как скажете, – согласился Степен, и тронул коней по еле заметной дороге, в сторону от Киевского тракта.
Вскоре густой хвойный лес начал редеть. Появились занесенные снегом проплешины лугов. Над болотами стелилась дымка. Кони резво бежали. Сани скрипели полозьями по снегу. Ехали и ехали…
– Ох, не нравятся мне эти тучи, – вдруг пробурчал Степан, поглядывая на низкое набухшее небо. – Сейчас как начнет тетка Матрена-едрена перину взбивать… Кабы не заплутать нам.
Вскоре и вправду закружились крупные снежинки. Горизонт неожиданно пропал в белой пелене. Степан погонял коней, сам про себя вздыхал:
– Ох, беда! Как бы с дороги не сбиться. Надо было все же до Пскова ехать.
Снег становился все гуще. Иногда складывалось такое впечатление, как будто сани стоят на месте, а вокруг нас все вертится и кружится. Начинало смеркаться.
– Степан, ты с пути не сбился? – обеспокоенно спросил отец, выглядывая из кибитки.
– Ну, что вы, барин! Я же тут каждую тропинку знаю, – с натянутым смешком ответил Заречный, но тут же нахмурился и тихо сказал мне: – Ох, барин, ты глазастей моего, смотри в оба. Нам бы ям не пропустить. Как заметишь огонек, скажи мне.
– Хорошо, – ответил я и стал пристально вглядываться в крутящееся снежное месиво. В глазах рябило, но ничего не разобрать и на десять шагов.
– Ох, беда, беда, – вздыхал Степан.
Лошади начали храпеть и сбиваться с шага. Сани кренились то на один бок, то на другой. Понятно, что мы все же потеряли дорогу.
– А если к ночи не доберёмся до яму16, – спросил я.
– Господь с тобой, – перекрестился Степан. – Не допусти такого, Богородица, – и забормотал: – Отче наш, иже еси на небеси…
И тут я уловил какой-то звук, будто печально пропел колокол. Неужели померещилось? Нет, еще раз долетел томный гул откуда-то издалека.
– Слышал, Степан? – дернул я его за рукав.
– Ась?
– Как будто набат.
Он вслушался.
– Слава тебе, Пресвятая Мать – заступница, – перекрестился он. – Кажись, Авдеева пустынь. – Пронесло!
Набат звучал все отчётливее. Наконец в кружащей серой мгле показались призрачные огоньки. Это на колокольне монахи зажигали факела в пургу, чтобы заплутавшие путники могли найти дорогу.
Сани въехали в распахнутые ворота, где нас встретили хозяева обители и провели в монастырскую гостиницу для паломников.
Глава вторая
Вьюга бушевала уже второй день, и мы никак не могли выехать из монастыря. Отец беспокойно мерил шагами темную трапезную залу. Мама наверху, в отведенной нам кельи читала сестрам «Житие святых» под мерное гудение пламени в печи. Я умирали от скуки, листая старинные монастырские книги в кожаных потертых переплетах с красочными картинками. Рассматривал древнюю буквенную вязь. За стеной завывала непогода. Тут же в трапезной двое паломников сидели в темном углу, ближе к теплой печке, и тихо обсуждали деяния апостола Андрея.
Вдруг низкая дверь резко, со скрипом распахнулась, и ввалился огромный медведь, принеся с собой морозную свежесть. Язычки пламени над свечками бешено заплясали. А паломники тут же примолкли. Медведь снял высокую меховую шапку, найдя глазами потемневший образ, висевший на стене, перекрестился. За ним следом влетел человек в офицерском плаще, подбитым мехом. Дверь громко захлопнулась.
– Зашибешь ты меня когда-нибудь, Нарышкин – добродушно пробасил медведь.
– Да, уж, Яков Петрович, вас, пожалуй, зашибешь, – усмехнулся офицер и помог ему снять шубу.
Блеснули генеральские эполеты, засияли ордена на груди. На боку оказалась длинная сабля, больше похожая на палаш кирасира. Заметив меня и отца, генерал произнес:
– Позвольте представиться, генерал-майор от кавалерии, Кульнев Яков Петрович, а это мой адъютант, Нарышкин, Иван Васильевич.
– Честь имею, – откозырял адъютант, и продолжил заниматься шубой, не зная, куда ее пристроить.
Кульнев, Яков Петрович. Где-то я слышал это имя, да не раз. И лицо знакомое с густыми бакенбардами, и большим прямым носом с горбинкой. А усища какие длинные!
– Очаров, Андрей Петрович. Рад видеть вас. И весьма удивлен, встретив столь известного человека в этой дыре, – ответил на приветствие отец, пожимая лапищу генералу.
– Матушке-природе плевать, кто генерал, а кто мужик. Она знает свое дело, – усмехнулся он. – Еле дорогу нашли. Так метет, так завывает… Постойте, – вдруг встрепенулся он. – А я вас помню. Да, конечно, встречал у Тучковых.
– Я работал под началом Алексея Васильевича…
И тут вдруг до меня дошло: этот генерал-медведь – герой, Кульнев. Да в каждой финской избе висит рядом с иконой лубочная картинка, где бравый гусар с саблей наголо громит шведов. Тот самый Кульнев, о геройствах которого ходило столько легенд… Это же он нагонял ужас на шведские войска, но настрого запрещал унижать пленных. Не раз спасал вражеских офицеров от разъярённых казаков, иным даже возвращал оружие. Помню, читал в какой-то газете, что сам Шведский король издал приказ, запрещающий стрелять в Кульнева. А знаменитый Фридрихсгамский мир17 был заключен благодаря его отважному переходу через замерзшее море. Неожиданно кавалерия, под командованием бравого генерала совершила безумный бросок по льду и оказалась у стен Стокгольма… И вдруг, вот он, живой, здесь, в этой темной трапезной, пропахшей щами и свечками… Да разве такое возможно? Я невольно встал и подошел ближе. Появился монах, спросил, что генерал изволит откушать?
– А что есть у тебя, братец? – дружелюбно сказал он.
– Нынче Рождественский пост, – извиняющимся тоном сказал монах. – Если изволите: похлебку гороховую с луком и пареный овес.
Я весь вскипел от возмущения. Отважному генералу, герою Шведской и Турецкой компаний предлагать пареный овес? Но Кульнев так же просто ответил:
– И то – пища. Неси. А что-нибудь согревающее есть? Я понимаю – пост… Но, нам, воякам, можно и в пост, тем более мы с мороза.
– Медовуху, – сообразил монах.
– Неси, родимый. Выпьем во славу Господа и сей обители, приютившей нас в непогоду. А это что за отрок? – наконец заметил он меня.
– Сын мой, Александр.
– Орел, – моя рука утонула в его широкой горячей ладони. – К какому полку приписан?
– К дипломатическому корпусу, – ответил за меня отец. – Но желает поступить в морской.
– Славно, – кивнул генерал. – Папеньку, конечно надо слушать, – он добродушно подмигнул отцу, – Но я тоже в Петербурге, в Шляхтинском кадетском корпусе обучался. Вот, до генерала дошел.
Подали суп, и генерал с адъютантом, совершив краткую молитву, принялись за еду, аккуратно поднося оловянные ложки ко рту, стараясь не замочить усы. Попросили и нас присесть, пригубить медовуху. Мне, как малолетнему, разбавили водой.
– Вот, ездил к матушке в имение, – рассказывал между делом генерал отцу. – А тут приказано срочно прибыть в Петербург. Сам Аракчеев, Алексей Андреевич18 требует. И что там случилось? Ох, не допусти господь опять нам с Наполеоном ссориться. Уж две компании ему проиграли, супостату.
– Дела неважные в Европе, – согласно кивнул отец. – Тильзитский мир19 мы не соблюдаем, продолжаем торговать с Англией. Не очень-то это нравиться Бонапарту.
– Ох, уж эта Англия. Все беды России от нее. Что за союзник? Иуда – и тот надежней был. Да… Дела. – Он недовольно покачал косматой головой. – А вы нынче куда едете в такую-то непогоду?
– С отцом плохо. Призвал к себе. – Папенька перекрестился.
– Вот как? Беда. Что ж, на все воля божья. «Мы не властны над жизнью», – сказал Кульнев, доставая трубку и кисет.
Отец долго беседовал с офицерами о политике, о Наполеоне. Спорили: нападет Франция или мы первые вступим в Европу.
– А что ему? – пожимал плечами седой генерал. – Всё под ним. Одних пушек сколько. И поляков я хорошо знаю – подленький народец, сразу под его знамена станут. И на шведском престоле нынче Бернадот20, маршал Франции.
– Но что ему делать в России? Его армия не то, что до Урала, до Москвы не дотопает.
– Да, – усмехался генерал. – Россия большая. За что люблю ее, матушку, так это за то, что в каком-нибудь углу всегда драка идет. А где драка, там и я. Но честно вам скажу: не люблю войну. Геройства, подвиги, ордена – все с кровью дается. Но Наполеон, видите ли, неуемный какой-то. В Египет полез, чтобы Англии насолить. Ходили слухи, что с покойным императором Павлом он тайно сговорился на Индию напасть. Уже, говорят, казаки под Оренбургом в разведывательную экспедицию снаряжались.
О современном положении России я знал немного. По Тильзитскому миру, заключенному Наполеоном и императором Александром, Россия присоединяется к континентальной блокаде Великобритании. Европа после Аустерлицкого сражения21 попала полностью под власть Бонапарта. У него осталось два главных врага: Англия, с которой он никак не хотел примириться и Россия, поддержкой которой он старался заручиться. Наполеон пытался ослабить экономику Англии, подняв пошлины на колониальные товары, и пробовал возродить ремесленное производство в самой Франции. Делал это весьма напористо и неумело. Напрямую торговать Россия с Англией прекратила, но множество нейтральных судов в открытом море перегружали товары с английских кораблей и развозили по портам Европы. И в Петербурге частенько появлялись суда под флагами экзотических стран, привозившие ром, кофе, чай, сукно и множество других товаров. Обратно уходили, загруженные пенькой, парусиной, рудой, лесом, зерном. Франции такое положение дел очень не нравилось. Но поделать она ничего не могла, так, как флот ее был разгромлен, на море господствовали боевые корабли под английским флагом. Мало того, Великобритания стала захватывать французские колонии в Африке и Америке.
Я слушал разговор отца с генералом в пол-уха, а сам разглядывал огромную саблю, лежащую рядом с Кульневым на лавке. Она мне напоминала двуручный меч крестоносцев. Лезвие почти прямое, широкое. Рукоять огромная, точно на мои две ладони. И еще мне казалось, что сабля живая. У нее есть душа и характер. Она может любить и ненавидеть… Она знает своего хозяина, а чужому в руки не дастся…
–А как же вы ею рубите? – не удержался я от вопроса. – Она же, наверное, тяжелая.
– Ты про кого? – Удивился генерал. – Про мою подругу? – скосил взгляд на саблю.
– Можно ее посмотреть? – спросил я, как будто у хозяина злой собаки спрашивал разрешения погладить зверя.
Кульнев приложил указательный палец к губам:
– Тише! Пусть она спит. Эта трудяга столько голов порубила, что пора бы ей на ковер – отдыхать.
Сначала я хотел обидеться: что он меня за маленького считает? Но говорил он вполне искренне:
– Люблю ее, дуру. Но характер у нее паршивый. Как проснется, как завизжит, из ножен вылетая, сразу крови просит… Ну ее. Пусть спит.
***
На третий день нашего невольного заточения нас поднял Степан.
– Метель стихла. Можно ехать, – сказал он, вынося из трапезной наши дорожные сундуки.
– А генерал где? – спросил я, не учуяв запах крепкого табачного духа в трапезной.
– Генерал съехал еще за полночь.
– Почему же он не попрощался?
– Не хотел будить. А вам просил передать, что очень рад знакомству. Хороший человек. Я его еще с Турецкой помню. Лихой вояка. Беден, правда. Заметили, мундир то у него генеральский, а пошит из солдатского сукна.
Я спустился в трапезную – никого. Только паломники спали в углу возле печки, свернувшись калачиками на подстилках из соломы. И вдруг я заметил на столе трубку. Старую, просмоленную трубку. Так это же – генерала. Я взял ее в руки. Точно – его. Простая, вересковая, с коротким мундштуком. Надо же! Наверное, расстроится, когда не найдет. Да вряд ли вернется. Его же в Петербурге ждут по срочному делу. Я спрятал трубку в карман своего пальто.
***
Звезды ярко горели в чистом утреннем небе. У горизонта белесой полосой отметилась хвостатая комета, словно художник по темно-синему фону мазнул случайно кистью с белой краской. Двое паломников в черных длинных зипунах, с котомками за плечами крестились и шептали молитву. Один из них, как бы невзначай, обратился к нам, указывая на комету:
– Знак божий на небе. Ох, беде быть. Ох, к погибели.
– Чего раскаркался? – рыкнул на него Степан. – К беде, к погибели. Ну-ка пошел своей дорогой. Без тебя тошно.
– Вот, не веришь, мил человек, а я то знаю…
– Топай, – повысил голос Степан. – Протяну сейчас тебя кнутом по хребту – будет тебе погибель. Гадатель нашелся. Знает он…
– Оставь его, – попросил отец. Протянул паломнику золотой червонец. – Помолись за нас и за Отечество.
– Благодарствую! – скинули божьи люди свои суконные шапки и кланялись в пояс.
– Ух, бездельники, – проворчал Степан, сплюнул и тронул коней.
– И вправду, комета к беде? – спросил я, кутаясь в пальто.
– Ну, барин, такое у меня спрашиваешь. Чай умней мужика будешь.
– А все же, как по твоему разумению? – не отставал я.
– Кто ж его знает, – задумался он. – У бога для нас все дорожки кривенькие. Чему быть – тому не миновать.
Я все глядел на комету с причудливым расширяющимся хвостом. Вроде, ничего в ней страшного, даже красиво. Но что в себе таит этот знак божий? А вдруг и вправду – к беде?