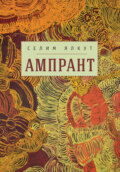Селим Ялкут
Львовский пейзаж с близкого расстояния
– Доктор, вы наших лечили. Мы из Тереблечи, граница за сто пятьдесят метров. С другой стороны Сегет, Румыния. Мы вас переведем. Берите по чемодану на человека, самое важное и идем. Будьте готовы в любой момент.
На переговоры ушло несколько дней. Риск был огромный, но и оставаться теперь было нельзя. Вечером отец послал Фрица к доктору Цухрухту. Этот Цухрухт – санитарный врач был отцовским приятелем. Времена меняются и люди тоже. Цухрухт был хорошая штучка, при австрийцах он был Теодором, при румынах – Тодором, при Советах еще кем-то, теперь трудно вспомнить. Но выбирать было не из кого, а отец в последний момент решил оставить ему на сохранение дипломы – свой, сына и дочери. В Румынии, где-нибудь в другой стране он мог их подтвердить. Эти пусть пока остаются здесь. Кое-какие вещи он Цухрухту уже отдал. Но теперь у Цухрухта не открывали. Фриц поспешил к доктору Пахтеру. Отец его знал, Фриц был у него на свадьбе. Зиги (Зигфрид) Пахтер был женат на дочери директора банка. Позже ему удалось выбраться и он закончил свою жизнь в Париже, стариком. Конечно, вариант Пахтера был ненадежен. Но что делать? Вместе они спустились в подвал и нашли подходящее место для тайника.
Когда спустя два часа Фриц вернулся, дома было темно и пусто. Пробежал по комнатам, никого. Только телефон звонил каждые пять минут, но трубка молчала. На кухне записка. От отца. Сын, мы ушли в Строгинцы, добирайся сам, мы тебя ждем.
Строгинцы – в семнадцати километрах от города. Двадцать восьмое сентября. На улице темень. Комендантского часа нет, но кругом пусто. Ни людей, ни машин. Подъезжает эмка. Выглядывают два молоденьких офицера, объясняются на ломаном румынском. Вам куда? Строгинцы? Мы как раз туда. Садитесь, подвезем. В руках у Фрица чемоданчик с парой белья, за поясом, под пальто пистолет, тот самый припрятанный Вальтер. Доехали весело, офицеры пытались вовлечь Фрица в разговор. В Строгинцах показали дорогу, всё они здесь знали. Адрес немцев у Фрица был, он и самих знал, познакомились у отца. Шмидт и Дах – фамилии. Даже шутили по- немецки. Оне Шмидт эйн дах, оне Дах эйн Шмидт. Без кузнеца нет крыши, без крыши нет кузнеца. Военные укатили (сделали свое дело). Несмотря на полную темень, Фриц нашел немцев быстро. Зашел во двор. – А, уже приехали. Мы тут еще одного ждем. Но ладно, поехали, не будем терять время.
Сели на подводу. Выбрались во тьме на околицу, где-то совсем рядом – речка Сегет, за ней румынский городок с тем же названием, огни видны. Зашли в какую-то хату, лучина чуть светит. Стоят отцовские чемоданы. Сидите, говорят, пока и отдыхайте. Ваши уже там. Вещи потом переправим, с вещами им трудно. Все, вроде бы, правильно, но дурное предчувствие – лгут. Делать, однако, нечего. Фриц приоткрыл пальто, показал мельком пистолет. На тот случай, если собираются грабить. Проводники вышли, сказали, по нужде. Фриц выглянул. Стоят и фонарем помахивают. Это нашим с другой стороны знак подают. Так ему объяснили. Наконец, двинулись. Велели идти по тропке, не спешить, и в сторону не сходить. Ведут вдоль границы, видно по огням Сегета – ни дальше, ни ближе. Почему не туда? Здесь место неудобное для перехода. Идите спокойно, мы знаем. Шли минут десять, и вдруг со всех сторон из кустов посыпалось. Стой. Кто идет. Выстрелы прямо над головой. Шмидт тут же рванул в сторону. Человек десять обхватили со всех сторон и сразу за пистолет. Знали, что вооружен. И между собой. Шпион, шпион. Фонариком тычут в лицо. Руки связали. Куда-то повели, втолкнули в комнату. Военный за столом. Фамилия, имя, куда шел. Впрочем, и так ясно, куда. Заперли в погреб. Там уже была женщина, крестьянка, тоже задержанная, в углу мешки картофеля. Дело швах. Но, как ни странно, Фриц повалился на мешки и почти сразу уснул. Утром подняли, вывели на улицу. Один красноармеец впереди на лошади, другой сзади. Фриц шлепал между ними по селу, руки за спиной. Подъехала военная полуторка. Задержанного передали, как положено, с бумагой, посадили в кузов и повезли под конвоем назад в Черновцы.
Спустя годы, после возвращения из лагеря Гольдфрухт узнал, что в том районе, где они пытались перейти границу, погибло немало народа. Люди хотели вернуться в Румынию, которую считали родиной. Шли толпой, днем, под румынским флагом, совершенно открыто. Их остановили пулеметом.
Тюрьма. Его доставили в бывшую казарму румынского пограничного полка, там теперь было место предварительного заключения. Раздели, обыскали, одежду перещупали. И он оказался в камере. Комната, метров сорок со вторым этажом по периметру, вроде балкона. Сверху стали звать, знакомый помещик по фамилии Фишер. Имение рядом с Черновцами. Гольдфрухт там часто бывал. Для конца сентября день выдался очень жаркий. Люди сидели в одних трусах и с ожесточением работали руками. Издали выглядело странно, но прояснялось быстро, стены буквально шевелились от невиданного нашествия клопов. Нужно отдать должное семье Гольдфрухта, клопа он впервые увидел здесь. Насекомых били туфлями. Ему выделили матрац, и Фриц присоединился к остальным. Недели две он провел в приличной компании, на втором этаже сидела чистая публика – фабриканты, помещики, был священник, преподаватель университета. Как выяснилось, Фишер хотел бежать при помощи все того же Шмидта, случай был явно не единичный, между собой они называли это фирмой. Ясно, Шмидт был далеко не главным.
Больше всего Фрица волновала судьба близких. Если, забегая вперед, подвести итог тюремно-лагерной одиссеи: он попал за решетку в конце сентября сорокового года, освободился из лагеря в мае сорок седьмого. С отцом он еще общался, с матерью простился в лагерной больничке, сестру видел издали, когда разгружали лагерный эшелон, спустя несколько лет встретил в лагере. Мать и отец умерли в лагере, сестра осталась жива.
В ту ночь их провели тем же путем, что Фрица. Точно также проходило задержание, солдаты высыпали из кустов с криками и стрельбой. Но стреляли плохо. Пуля попала доктору Гольдфрухту в шею и вышла через щеку, как ни удивительно, ничего внутри не задев. Отца привезли в городскую больницу. Со стороны организаторов провокации это было крайне неразумно. Доктора в городе знали, тем более врачи, многие были его учениками. Они держали Гольдфрухта в больнице больше месяца, лечить не спешили, из больницы его буквально вырвали и под конвоем перевезли в тюрьму. Оказалась, инсценировка с переходом границы была налаженным делом. Но после их случая провокации прекратились, история наделала много шума. Все это Фриц Гольдфрухт узнал после войны, когда вернулся в Черновцы.
А первые сведения о судьбе родителей Фриц получил от своего следователя. Только то, что они живы, без каких-либо подробностей. Следователь был молдаванин, неплохой парень, претензий к нему не осталось. Допросов было два или три, не слишком утомительных. Для начала его обвинили в шпионаже. К кому шел? Кто приходил к вам в дом? Румынские офицеры? Румынская разведка? Мы знаем – вы офицер.
То, что он офицер румынской армии, Гольдфрухт не скрывал. Отвечать было легко. Какие могут быть у него секреты. Румынская армия со времен первой мировой войны была вооружена по образцу русской. Калибр пушек немного изменили, чуть высверлили стволы. Вот и все, что он знает. Все секреты записаны в уставе румынской армии.
А разведчики? Приходили люди к отцу. Лечились. В городе всегда было много военных. О чем говорили? Обо всем – о женщинах, о лошадях, о службе.
Допрашивали корректно. Можно даже сказать (Фриц так считает), относились с уважением. Мотивы его поведения были понятны, он и не скрывал – шли в Румынию к родственникам. В общем, с ним пока обошлись милостиво и перевели в тюрьму Марии Терезии.
Статью, по которой он осужден, Гольдфрухт узнал только в сорок втором году в лагере на Урале. Он получил пять лет за попытку нелегального перехода границы. Тогда он уже немного говорил по- русски, мог спросить. Кто осудил? Тройка? Что такое тройка? Этого ему объяснить не смогли. Тройка – есть тройка. То есть, суд? Нет. А что? Тройка.
Вышел он из лагеря через семь лет, последние два года был не заключенным, а интернированным. Ему объяснили, он мог нанести ущерб стране и был потенциально опасен как офицер вражеской армии. Такими же интернированными считались немцы Поволжья. На его положении это никак не сказалось, он продолжал сидеть все в том же лагере. И все, кого привезли вместе с ним, и кто смог выжить за эти годы, продолжали сидеть. Отпустили вместе всех уцелевших.
А тогда Фриц попал в городскую тюрьму Марии Терезии, как раз напротив лицея, где учился. Была в этом некоторая ирония. В обязанности черновицкого гарнизона входила охрана тюрьмы, Фриц несколько раз командовал таким караулом. В тюрьме он был не впервые, хоть из недавнего прошлого ему, конечно, трудно было вообразить нынешнюю участь. Зато было с чем сравнить. Обыскали тщательно, по всем правилам и определили в камеру под номером 50. Камеры были рассчитаны на двух человек, а в ту осень, находилось в них постоянно от семнадцати до двадцати двух. Лежали на цементном полу, под окном располагался мелкий фабрикант Розберг – знакомый отца. Он находился здесь уже более месяца, пользовался уважением, как старожил, и устроил Фрица рядом. Лежали валетом. Ширина камеры – метр девяносто, поворачивались по команде. Окна были забиты наглухо уже при нынешней власти. Не топили, но жарко было всегда. Столько людей, и запах от параши. Арестанты были сплошь черновицкие, много воров, шпаны, два известных черновицких сутенера. Были непонятные люди – набожный, молодой украинец Турунчук, крестился каждые десять минут. Его почти каждую ночь вызывали на допрос. За что Турунчук сидел, Фриц так и не понял. Его тоже вызвали, предложили сотрудничать. Тут Фрицу было просто, он сказал, что не понимает ни русского, ни украинского, и от него отступились.
В этой камере он провел девять месяцев – до 23 июня 1941 года. Утром давали чай и двести пятьдесят граммов хлеба, днем суп из зеленых помидор неописуемого вкуса. Потом норму хлеба немного повысили, это была основная еда. На прогулку Фриц вышел лишь раз, и рассудил, что двадцать минут в тюремном дворе ничего не дадут. Часа два – другое дело, а так – только простудиться, и, главное, привыкать каждый раз к камерному зловонию было мучительно. Поэтому он неотлучно находился в камере, пренебрегать прогулкой разрешалось. При румынах, при австрийцах камеры не запирались (это Фриц знал, как бывший караульный), заключенные ходили друг к другу в гости, делали, что хотели. С тех пор порядки сильно изменились.
В середине июня в камеру привели украинца Помзера, тот служил у Фрица в подразделении. Помзер был парнем сообразительным, знал языки (немецкий, румынский, украинский), румыны направили его в какую-то специальную военную школу. И вот теперь он неожиданно объявился. Можно было только догадываться, за что он попал, Помзер на свой счет не распространялся, но держался бодро. Говорил, что скоро начнется война, и судьба их непременно переменится к лучшему. О том, что могут расстрелять, Фрицу как-то не думалось, да и сама камерная жизнь была такова, что мысль о смерти не казалась страшной. Вообще, за годы заключения Фриц стал фаталистом, в тюрьме, как он уверен, это лучший способ выжить.
Двадцать второго июня в тюрьме начался шум, беготня, арестанты вернулись с прогулки с известием – война. Двадцать третьего заключенных вывели во двор, стали пересчитывать, готовить к отправке. Был очень яркий летний день, Фриц хорошо это запомнил после многомесячного сидения взаперти.
Офицер вызывал пофамильно и солдаты уводили группами. На букву А, потом Б, такой-то, такой-то. В ответ на свою фамилию, названный поднимался, называл имя, отчество.
Дошло до Гольдфрухта. Фриц откликнулся – Фридрих Бернгардович, неподалеку поднялся старик – Бернгард Арон Исаакович. Это был отец. Два часа они сидели рядом и не узнали друг друга. Отец никогда не носил бороды, а здесь – длинная, седая. И Фриц, видно, тоже сильно изменился. Потом выяснилось, они находились в соседних камерах, Фриц – в 50-й, отец – в 48-й, мимо его камеры отца выводили на прогулку. Про судьбы матери и сестры отец ничего не знал, как оказалось, они прошли через тот же двор вслед за мужчинами.
Их группу – человек двадцать посадили в закрытую машину и повезли на вокзал. С утра была слышна сирена воздушной тревоги и звуки далекой бомбежки. И последнее, что сохранила память от довоенного города: окно в машине было приоткрыто, и сквозь решетку он увидел рабочих, которые неторопливо белили трубы на крыше горсовета.
Дорога на восток. В эшелоне он не расставался с отцом ни на минуту. Вагон для перевозки лошадей был приспособлен под заключенных: нары, одной доски в полу нет, это уборная. Народ самый разный. Никто не бывал раньше в глубине страны, куда они сейчас направлялись. Был генерал-австриец 86 лет, его тоже забрали. Был бывший комиссар полиции с сыном, Фриц его знал, вместе учились, было несколько важных румынских чинов. Вместо четырех лошадей, как раньше полагалось, везли теперь человек сорок. Порядки в вагоне свободные – хочешь, устраивайся на нарах, хочешь – на полу. Подстелить нечего, даже соломы нет.
На день полагалось полбуханки зеленого от плесени хлеба, селедка и вода – два ведра на всех. У отца был диабет, Фриц отдавал ему свой хлеб, а тот ему – селедку. Тем они и жили больше месяца.
Вначале их преследовала румынская авиация. Хотели поезд остановить, сам эшелон не бомбили, только пути впереди. Во время бомбежки останавливались, охрана разбегалась, можно было выдернуть доски в полу и попытаться бежать. Но никто так и не решился. Было много пожилых, обессиленных тюрьмой, молодежь вместе с престарелыми родственниками. Фриц с отцом. Куда он мог бежать? Сам он, конечно бы, решился, но не сейчас. Переехали днем какую-то большую реку, бомбежки закончились. Часто стояли рядом с эвакуированными – такие же эшелоны, только двери вагонов нараспашку. Смотрели друг на друга сквозь решетку, ближе охрана никого не подпускала.
Примерно через месяц прибыли на место. Поезд остановился, где-то за Свердловском. Лес кругом, высокая насыпь, стариков из вагонов приходилось сносить на руках. Фриц запомнил, как они уселись с отцом, передохнуть. Пришли подводы. На них положили багаж, у кого был, сумки, отца подсадили. Неподалеку разгружался женский вагон, Фриц увидел мать и сестру, мать выглядела совсем старухой, обе были больны, не могли идти сами. Поговорить им не дали, все, что Фрицу удалось – помахать издали.
Лагерей в жизни Фрица оказалось несколько. Первый был обжит – 3-4-х метровое ограждение из колючей проволоки, вышка на каждом углу, ворота, бараки. Началось с обыска, забрали медицинские инструменты отца, которые он сумел сохранить со дня ареста (с ними шел через границу). Распределили по баракам. Отец неожиданно воспрянул духом. Здесь следует добавить (Фриц это видел), отцу было очень тяжело. Отнюдь не физически. Сознание того, что, приняв решение остаться в городе, он обрек на страдание близких, сделало его глубоко несчастным. До самого последнего часа.
– Ничего, – крепился отец, – я поговорю с начальником. Мы – военнопленные, нас должны обеспечить.
Отец продолжал считать себя офицером австрийской армии. С этим он пошёл по начальству. Непонятно, как он объяснялся (не зная русского), но факт тот, что его назначили лагерным врачом. Правда, без инструментов, их не вернули. Не положено. Показали, где будет врачебный пункт. На следующий день вызвали Фрица.
– Ты – сын врача? Пойдешь хлеборезом.
Фриц кое-как понимал украинский. Среди заключенных оказались знающие люди, объяснили. Хлеборез – человек, кто принимает хлеб, режет на пайки, взвешивает и выдает. Фрица привели в барак, оказавшийся кухней, приставили к небольшому окошку, дали нож, весы, показали – вот, сколько должно быть, 400 грамм (или 200, с тех пор он забыл сколько). Хлеб свежий, ещё сырой. Попробуй отрезать ровно 400 грамм. Адский труд, руки с непривычки были в крови. Через три дня его сняли. Причем быстро, работа считалась очень выгодной. Он был рад. А продержался бы на хлеборезке, возможно, остался бы в этом лагере, вместе с отцом.
Отца изгнали из медпункта спустя несколько дней. Бернгард Гольдфрухт упрямо считал себя военнопленным и отстаивал права лагерников, ориентируясь на всякие международные соглашения, которые помнил с прошлой войны. Их этап оказался особенным. Поразительно, что будучи заключенными, узнав тюрьму и отчасти привыкнув к тюремным порядкам, люди не могли понять, что с ними происходит. Обыватели и буржуа они представляли мир, как продолжение родных Черновцов, реальность – пусть менее благополучную и комфортную осознавали, как неразрывную череду причин и следствий. Прошлая жизнь придала им уверенность, что наказание (пусть даже несправедливое или чрезмерно жестокое) следует за виной, но они не видели за собой никакой вины. Это лишало их нынешнее состояние какого-либо подобия смысла, в том самом изначальном его понимании, которое определяет существование и жизнь. Они не знали языка, правил поведения, не понимали систему, которая загнала их сюда, но проблема здесь была глубже – отсутствовало само представление о цивилизации, которое еще недавно казалось им – европейцам совершенно естественным. Здесь был свой особый мир. Они старались приспособиться и выжить, но этого оказалось недостаточно.
Фриц провел в этом лагере рядом с родителями недели три. Собралось человек триста-четыреста со всей Буковины, много знакомых. Конечно, нынешнее существование не имело ничего общего с прошлым, но, казалось, хуже быть уже не может. И тут утром, на перекличке всем более-менее здоровым приказали собираться.
Фриц успел забежать к матери. Она была в лазарете, совсем больная. В памяти осталось – матрац на досках и голова на подушке. Что он мог сказать? За минуту поздоровался и попрощался. Скоро увидимся. Это были ее слова. Поцеловались, и он вышел. С сестрой так и не простился, женщин угнали на какие-то работы.
Еще было тепло. Отец подошел, торопясь, их уже строили в колонну, снял с себя шапку, надел на него.
– Сыночек, не думай о нас. Мы о себе позаботимся. Делай то, что считаешь нужным.
Они обнялись. Больше он родителей не видел. Известие о смерти получил сразу на обеих. Спустя много лет пришли официальные справки. Отец умер 9 ноября, мать – 2 декабря 1941 года. Причина смерти – болезнь сердца и возраст, поразительно, что лагерные болезни проходят под теми же названиями, что болезни в обычной жизни.
Лагерь . Их выгрузили на снег среди леса. Как выяснилось (потом Фриц узнал), это была все та же Свердловская область, километров за 70 от Полярного круга. Ближайшее село километров за 150, это в одну сторону, в другую – за 30.
Объявили. Стройте здесь, на этом месте. Раздали топоры, пилы. Расстелили брезент. На снегу ночевали. Жгли костры, дров хватало. Лошадей откуда-то пригнали. Расчистили место. Когда выстроили барак, перешли жить туда, потом – второй, третий, вахту, ограду, вышки, ворота, столовую, в общем, подняли тюрьму собственными руками. Подавляющее большинство заключенных не имело никакого отношения к строительству, лишь немногие, в основном, крестьяне, вообще занимались физической работой. Поэтому результаты их труда можно считать удивительными, вернее, неожиданными, как неожиданным оказалось самое осознание рабства. Здесь Фриц понял, он стал рабом. За несколько месяцев уральской зимы они поставили среди леса лагерь. Место это – лагпункт, называлось Белая.
Фриц обморозил ноги, все это время он ходил в туфлях, оставшихся еще с ареста. Обморожения были массовыми. Организовали бригаду, которая плела лапти. Фриц тоже научился, у плетения лаптей, как у любой профессии, – свои секреты.
Потом, когда стали выводить на лесозаготовки и строительство узкоколейки, выдали старые ватники и валенки, шапки. Время для Фрица кончилось. Исчезло всякое представление о календаре, о днях недели, тем более, первые три-четыре года выходных дней не было вообще. Заметным оставалось только время года – весна, короткое лето, осень. Примерно спустя год с новым этапом пригнали старого знакомого по Черновцам. Тот работал при лазарете, хоронил мертвых. От него Фриц узнал, что родителей нет в живых. На следующий день он остался в бараке, на работу не вышел. Его бросили в карцер – большую крытую яму с грязной подстилкой на дне. Большую часть времени он провел один, в полной темноте. Он перестал есть. Ежедневно полагался кусок хлеба и вода, на следующий день их забирали нетронутыми (и съедали тут же), всего восемнадцать раз. Так он считал время. Не то, чтобы он хотел умереть, такие мысли не приходили в голову, но испытывал полное безразличие к собственной судьбе. Возможно, благодаря этому, сознание оставалось совершенно ясным. Через восемнадцать дней его подняли и повели в медпункт. Шел он сам. В медпункте отказались его принять. На счастье Фрица, у лагерной бани, куда его отвели, в тот день оказалось два достоинства – горячая вода и заведующий – бессарабский еврей, старый знакомый.
Была еще одна история, связанная с этими людьми. Спустя некоторое время, когда он уже вышел на работу, у него невыносимо разболелся зуб. Врач – женщина, капитан медицинской службы считала всех заключенных врагами и предателями и никак им не сочувствовала. Она велела Фрицу придти в начале следующего месяца (так он узнал, какое теперь число), а объяснила: за этот месяц медицинский отчет уже составлен, количество больных зубов подсчитано. До первого числа оставалось несколько дней, и Фриц не стал ждать. Он пошел к тому же знакомому банщику, и тот пальцами вырвал зуб.
Такая манипуляция – удаления зубов руками проводилась и по другому поводу, Фриц тому свидетель. История эта связана с уголовниками. С ними он постоянно сталкивался. В лагере украли единственную память об отце – серебряную коробочку, в которой отец носил заменители сахара. Одну из двух он отдал сыну. Как-то Фриц попал на свердловскую пересылку, во время перевода из одного лагеря в другой (всего таких лагерей в его жизни оказалось четыре). Завели новоприбывших в огромную камеру, народа было много, но место оставалось. Каждый из лагеря шёл с какой-то сумкой, с парой белья, шарфом, тряпками. Мундштуки делали из дерева. Стали устраиваться на ночь, укладывались под нары, а Фриц выбрался на самый верх, внизу дышать было нечем. И вдруг свет погас. В полнейшей тьме полезли воры, стали ощупывать. Только и слышно вокруг, ш-ш, ш-ш, ш-ш. Начинаешь дергаться, они давят умелыми руками. У Фрица выдернули валенки, у других еще что-то. Поднялся крик: Охрана! Свет! Охрана в ответ со смешком: – Что такое? У вас света нет? Сейчас сделаем… Пока всех не обшмонали, свет так и не включили. В этом бессарабском этапе был бандит по фамилии Билецкий из Кишинева, между прочим, когда-то при румынах имел свой банк. На следующий день стали выяснять отношения с камерным авторитетом. Схватили какого-то несчастного, на спор Билецкий сунул руку ему в рот и выдернул здоровый зуб.
Единственный раз был случай, лагерные уголовники спасовали. В лагерь пригнали сплоченной группой человек пятьдесят грузин. Одеты отлично, шапки меховые, настоящие. Это потом выяснилось, было лето, и теплую одежду грузины притащили на себе, в мешках. Поселили их в отдельном бараке, главный пошел к начальнику. Мы ваше есть не будем. Сколько нужно, чтобы нас кормили? Мы деньги найдем.
Буквально на следующий день во время вывода в столовую уголовники украли у грузин все, что у тех было. И тут началось. Грузины вломились в барак, устроили побоище. Били, не разбирая, всех подряд. Фрицу тоже досталось, как и многим другим, никак к краже непричастным. Охрана в выяснение отношений не вмешивалась, рассчитывала поживиться. Большую часть украденного вернули, главное, шапки. Вскоре грузин отправили куда-то дальше.
Лагерь был многонациональный. Много было прибалтов – латышей и эстонцев, поволжских немцев, были поляки, в сорок четвертом году стали поступать военнопленные. Для них этот лагерь был большой удачей. Неподалеку был еще один – там держали эсэсовцев, по пути на работу колонны заключенных иногда встречались. Порядки там были совсем зверскими. В лагере Фрица выдавали ношеную спецодежду, от холода она спасала. А у тех, в чем попал в плен, в том и ходил. Зимой на них было страшно смотреть.
Фриц держался одиночкой. Кто говорил по-немецки, был свой человек, с этими людьми Фриц чувствовал себя свободнее. Начальство национальную принадлежность никак не выделяло, относилось ко всем одинаково, все решала норма рабочей выработки. Выжить было очень трудно. Карцер, как ни странно, сослужил хорошую службу. Прошлое отступило, оно осталось в памяти, но между ним и сегодняшним днем пролегла черта. Пришло, соответствующее месту, чувство реальности. А вместе с ним появилось желание выжить. Как ни странно, питала не надежда на восстановление справедливости, на освобождение (об этом он запретил себе думать), а злость и обида. Главное, что он теперь помнил, были слова отца. Будь один и не бойся.
Основной работой были лесозаготовки. Поднимали людей в шесть, перекличка и построение в семь, рабочий день вместе с дорогой занимал двенадцать часов. И то не всегда, был лагерь, где оставляли в лесу до выполнения нормы. Пока не сделаешь, не уйдешь или сдохнешь (слова Фрица) там же в лесу. Морозы зимой были за 50о, свыше 41о из зоны уже не гнали. (в 40о можно), люди оставались в бараках. Бараки обогревали огромные железные печи, и все равно холод был страшный. Первые выходные – раз в месяц стали давать в сорок пятом году.
Построение на плацу, перекличка, (выкликали пофамильно, в ответ полагалось – есть и назвать имя и фамилию). Потом разбирали инструменты, строились и шли колонной на место. Нужно было их видеть – изможденных, оборванных, словами этого не описать. Один из офицеров охраны так пошутил: – Наши заключенные самые здоровые – туда и назад десять километров в снегу и еще норму дают. Порядок был известен: шаг влево, шаг вправо – считается побег. На глазах Фрица застрелили румына – молодого врача из новоприбывших военнопленных. Зачем-то ему понадобилось отойти, языка не знал, окрика не понял. Уложили на месте.
Кормили так – утром болтушка, без мяса, из муки и вечером такая же. На сутки полагалось шестьсот граммов хлеба для тех, кто выполнил рабочую норму, иначе уменьшали до двухсот пятидесяти. Хлеб был хорошего качества, пекарня за пределами лагеря обслуживала вольный поселок. На хлеб можно было купить продукты или табак. Спичечная коробка табака шла за буханку хлеба. Курево не полагалось, обмен шел через вольных, которым разрешался выход из зоны. За зоной хлеб ценился, шла война, хлеб был по карточкам.
Раз в год заключенные проходили медкомиссию, она определяла пригодность к труду. Врач грузин жалоб не выслушивал, на сердце и легкие внимания не обращал, выносил решение на основании осмотра ягодиц. Если под кожей оставалась капля ткани, человек считался годным, если торчала голая кость, переводился на более легкую работу. Такой способ практикуется ветаринарами и домашними хозяйками для оценки кур и скота, здесь он применялся для врачебно-трудовой экспертизы.
Боялись эпидемий. Раз в неделю или две (когда как) полагалась баня, меняли рубашку и кальсоны. Мыло выдавали исправно, после хлеба это был наиболее частый объект воровства. В лагере была кухня и прачечная. Начальник столовой был хороший человек, поляк из заключённых. За всем этим лагерным бытом стояла особая и хорошо отлаженная система отношений, которую невозможно объяснить человеку со стороны. И в самом лагере многое зависело от начальства, по нему определялось – лагерь хороший или лагерь плохой.
Среди начальства встречались садисты. Один такой остался в памяти Фрица на всю жизнь. Из военных, побывал на фронте и считал всех заключенных врагами. Как-то выгнал человек двадцать (то ли провинились, то ли просто ему не понравились) на мороз (было градусов тридцать) и заставил их – раздетых бегать кругами. Люди падали, их поднимали и заставляли бежать дальше. Первая и вторая зимы были совсем страшными. Как-то Фриц заметил за бараком присыпанный снегом штабель, решил, что поленница. Ночью их подняли, вывели за зону, велели место очистить от снега. Разложили костер, отогрели промерзшую землю, выкопали яму и уложили туда трупы – содержимое этого штабеля.
Добавки к лагерному рациону заключенные добывали себе сами, проявляя сноровку и изобретательность. Это было подлинное искусство выживания. Летом в лесу было много клюквы, есть ее без сахара трудно, но они ели. Весьма полезным оказался дикий чеснок, Фриц ел его килограммами. Больше всего страдали от цинги и куриной слепоты. Спустя годы при встрече выяснилось, что у сестры Фрица в лагере началась куриная слепота. Вылечилась примочками мочи. Полезный совет.
Крайне полезным был турнепс – овощ типа сахарной свеклы, намного больше. Сначала ели его сырым, прекрасный (для заключенного) вкус, турнепс отличался мочегонным эффектом. Потом кто-то знающий подсказал варить из турнепса мед. Начальство проявило понимание, заключенные раздобыли огромный казан, вычистили его и целую ночь по очереди дежурили, вытапливая турнепс на медленном огне. Пили березовый сок. Гнали скипидар из березовых чурок. Некоторые умудрялись использовать его как спиртное. Летом в реке, по которой сплавляли лес, руками ловили рыбу. Вода была ледяная. Если охрана разрешала, можно было во время рабочего перерыва тут же в лесу сварить уху. Фрицу показали еще одно лакомство. При распиле деревьев попадался особенный белый червь. Вкусный, если, конечно, себя заставить. Фриц вспоминал китайский ресторан в Париже, как его вывернуло от похожего блюда. А здесь привык и ел с удовольствием (если, конечно, к лагерной жизни применимо это слово – с удовольствием). Вся эта гастрономия заканчивалась зимой, когда наступало голодное время. Особенно в первые годы. Фриц запомнил парня, который выбирал из выгребной ямы непереваренный горох (многие страдали от поноса), отмывал и ел.
Как бывшего офицера, Фрица выделяли. И держался он хорошо. Одно время его ставили во главе колонны, пятьсот человек шли через тайгу с Фрицем во главе. Назначили бригадиром. Но ненадолго. От любой формы выдвижения Фриц уклонялся, как только мог. Он не хотел ни общаться с начальством, ни, тем более, кого-то погонять. Здесь не следует искать моральных соображений, просто он оценил мудрый совет отца. Ему, чтобы выжить, лучше было оставаться одному. Работа давала такую возможность. Как ни странно, но именно там, в лесу Фриц чувствовал себя свободным. Солдаты становились в оцепление, а внутри было то самое место, где все решала работа. Главное было выполнить норму, а все остальное начальство не волновало.