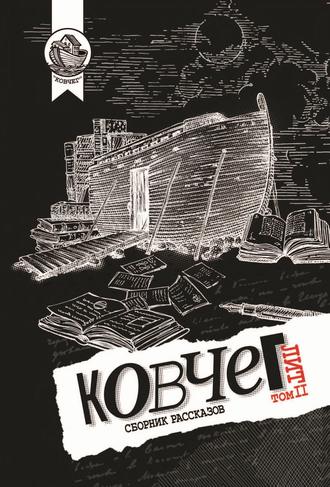
Сборник
Ковчег Лит. Том 2
За пятнадцать минут до назначенного срока Наташа уже сидела под дверью кабинета и листала модный журнал. В белом коридорчике было пусто и гулко, помаргивали холодные больничные лампы, лишь в закутке у окна помещалась молоденькая администраторша. У администраторши сегодня по дороге на работу сломался ноготь, и она была не в настроении. Из-за высокой конторки едва виднелись склоненная голова и краешек плоского монитора, так что непосвященным людям могло показаться, будто девушка занята работой. На самом же деле Наташа прекрасно видела, что она безуспешно раскладывает пасьянс «Паук» на две масти.
Ровно в три пятнадцать дверь кабинета приоткрылась, и оттуда выплыла доктор наук, психолог.
– Наталья Сергеевна? Проходите! – широким жестом пригласила она.
Наташа поднялась и пошла в кабинет – непонятно зачем, ведь третьим глазом она уже все увидела.
Ее усадили в топкое бежевое кресло лицом к окну. Сама же психологиня села напротив на высокий барный стул и теперь нависала над Наташей, провалившейся в мягкое едва не до пола. Мутное зимнее солнце маячило сквозь жалюзи, косой луч бил Наташе в лицо, и внутри у нее закипала злоба на эту холеную курицу, нахватавшуюся популярных психологических приемчиков.
Наташу начал душить истерический смех, который она изо всех сил старалась не выпустить до поры, а дать «доктору» начать «лечение», чтобы, раз уж выкинула такую кучу денег на ветер, насладиться победой сполна.
Психологиня включила тихую классику, что-то, кажется, из Шопена, сложила руки на коленях, склонилась над Наташей и произнесла бархатным грудным голосом:
– Что привело вас ко мне, Наталья Сергеевна?
Наташа молчала. Лицо ее было напряженным – его буквально сводило судорогой от смеха, который просился наружу.
– Я вижу, вы напряжены. Расслабьтесь. Сделайте глубокий вдох. Вот так, – психологиня изобразила глубокий вдох, Наташа нервно хрюкнула. – Что вас беспокоит? Проблемы на работе, личная жизнь? Гарантирую: все, что я услышу сегодня, не покинет стен этого кабинета. Но, чтобы решить проблему, мы должны сначала…
И тут Наташа не выдержала, расхохоталась. Психологиня посмотрела на нее с недоумением, отодвинулась немного.
– Что меня беспокоит? Что меня беспокоит?! – Наташа с трудом выбралась из кресла. – В данный момент меня больше всего беспокоит, что эту небольшую симпатичную практику вам на прошлый Новый год муж подарил, чтобы дома скучно не было. Конечно! Дети выросли, за границу учиться поехали. Чего мамочке дома киснуть, в домохозяйках? Пусть пусечка развлечется немного, на людей посмотрит! Так он вам говорил, да? А хотите, скажу, во сколько ему ваша фальшивая докторская степень обошлась?
Психологиня побледнела, губы ее задрожали.
– Как… Откуда… Откуда вам известно?! – задохнулась она.
– Интуиция! Банальная интуиция! Третий глаз, слышали? – хохотала Наташа, а у самой уж слезы по щекам катились.
– Я… Я не знаю, кто вас подослал и зачем… – прошипела психологиня. – Но убирайтесь вон! Вон, слышите!
– Сначала деньги обратно! Или я звоню в полицию! – выкрикнула Наташа, не помня себя.
Психологиня схватила с подоконника изящную сумочку из красной кожи, пошарила внутри и швырнула Наташе под ноги несколько тысячных бумажек.
– Убирайтесь! Иначе я зову охрану!
Наташа внезапно успокоилась. Насмешливо глянула на «доктора», подобрала с пола деньги, собрала в аккуратную стопочку и вышла, прикрыв за собой дверь. Она прекрасно знала, что сейчас чувствует психологиня и как она, Наташа, ее напугала. Это было довольно приятное ощущение. – Я… Я мужу скажу… Вы еще пожалеете, – слышала Наташа злой шепот в спину. Но ничуть не беспокоилась, потому что знала – не скажет. Некому говорить-то уже. Появилась недавно молодая да ушлая, увела мужа. Так ей!
Вроде и наказала Наташа аферистку, а легче от этого не стало. Даже наоборот. Куда бежать? У кого лечиться? А вдруг все они такие, психологи эти? Да и чем они ей помогут, если разобраться?
Дома Наташа долго плакала, уткнувшись носом в подушку, и из глаз ее текли горючие соленые слезы. Слез натекло ровно в полтора раза больше обычного, потому наволочка быстро промокла и ее пришлось бросить в стирку.
Наутро Наташа поехала в клинику Фёдорова. Глаз все-таки. Уж если там не помогут, нигде не помогут.
Прием вел старенький благообразный профессор, похожий на Эраста Гарина. Наташа с удовольствием отметила: настоящий. Всю жизнь офтальмологии отдал. Никаких скелетов в шкафу у него тоже не оказалось. А если и были, сам забыл – дело прошлое.
– У вас предынфарктное состояние, – зачем-то сказала Наташа.
– Знаю, знаю, – рассеянно откликнулся профессор. – С чем пожаловали, барышня?
И тогда Наташа стянула налобную повязку:
– Вот, смотрите.
За долгую медицинскую карьеру профессор отвык удивляться. Он пожевал губами, посветил в третий глаз специальным фонариком, рассмотрел как следует. Измерил давление глазного дна. Велел, закрыв остальные два глаза круглыми пластмассовыми лопаточками, прочесть буквы по таблице Сивцева. И Наташа их перечислила, сверху вниз, до последней строчки, а потом еще добавила, что таблица произведена пять лет назад в городе Дмитрове Московской области и ее оптовая цена – тридцать четыре рубля двадцать две копейки. Но эту тираду профессор пропустил мимо ушей. Записал что-то в карту, сказал, не поднимая седой головы:
– Здоровый глазик… Так на что жалуетесь?
Наташа растерялась.
– Видит он у вас хорошо? Так? – подбодрил профессор.
– Слишком хорошо, доктор! – воскликнула Наташа. И расплакалась. И бормотала сквозь слезы: – Он все-все видит, про всех! И почти одно только плохое, понимаете? Это же не люди, это…
Она долго и путано рассказывала доктору о том кошмаре, в котором жила в последнее время. Слезы текли в три ручья – и те, что из третьего глаза, скатывались прямиком по переносице и обрывались с кончика носа.
– Да. Люди, они такие, – раздумчиво сказал профессор. – Это, поверьте, и с плохим зрением видно прекрасно. Вот у меня – близорукость. Минус восемь. Но ничего нового я от вас не услышал. Ну, не плачьте! – Он улыбнулся и через стол подал Наташе коробку бумажных салфеток.
– Но что же де-елать? – всхлипнула Наташа, вытирая слезы, которые никак не хотели остановиться.
Профессор ненадолго задумался.
– А я вам знаете что… Эффекта стопроцентного не обещаю, но попробовать стоит…
И он стал выписывать рецепт.
Через несколько дней Наташа получила в оптике маленькую розовую линзу с нулевыми диоптриями и, едва дотерпев до дома, вставила ее перед зеркалом, промыв сначала пинцетом в специальном растворе. Сморгнула. Прикосновение линзы было глазу неприятно, но вполне терпимо. Наташа выглянула в окно и стала рассматривать прохожих.
Увы, розовая линза не работала. Наташа видела в людях то же, что и раньше. Однако приятный теплый оттенок как-то примирял с окружающей суровой действительностью. «Пойду завтра на работу, если не уволили еще, – решила Наташа. – А если увольнять начнут, шантажировать буду. Что я, хуже людей? Я же теперь все про них знаю, вот они у меня где!» – и сложила изящные пальчики в маленький твердый кулак.
Она уже целых десять дней никуда не выходила просто так, для собственного удовольствия. Не до того было. А сегодня решилась. В любимую кофейню, где подавали изумительный горячий шоколад с пряностями. И неважно, как да из чего его там готовят! Натянула старенькие джинсы, мягкий оранжевый свитерок. Краситься не стала – зачем, когда кругом одни моральные уроды?
Наташа увидела его, едва ступила на порог. Он сидел перед распахнутым лаковым ноутбуком, и сильные пальцы стремительно ходили по клавиатуре, касаясь ее мягкими ласкающими движениями. Вид имел сосредоточенный. А потом неожиданно встал во весь рост и с удовольствием потянулся, так что захрустели суставы. Могучая шея, широкие плечи, никакого намека на пивной живот. Выбритые виски. На глаза углом спадает черная ассиметричная челка. Обтягивающие джинсы, остроносые сапоги-казаки. Белая водолазка обтекает рельефы… Наташа смотрела как завороженная. Почувствовав ее взгляд, он повернулся и спросил:
– Что уставилась, куколка? Познакомиться хочешь? Так я не против! – и улыбнулся, продемонстрировав крепкие белые зубы.
Она сразу все про него поняла: что трепло, что женат третий год, что почти нищий фрилансер на случайных заказах, а замашки как у наследного арабского принца, что не дурак выпить и покуривает травку, что хамоват, что знакомиться с ним нельзя ни в коем случае, НИ В КОЕМ! Но это странным образом ее не обеспокоило. Она шагнула навстречу и неловко протянула вспотевшую ладошку:
– Наташа.
– Сергей, – ответил он насмешливо, сканируя Наташу взглядом и подбирая ее дрожащую ручку своей увесистой лапищей.
«Как Сергей? Ты же Никита!» – пронеслось в голове.
А потом как будто что-то щелкнуло. Маленькое невесомое стеклышко упало под ноги и, розово блеснув в приглушенном свете кофейни, неслышно покатилось под столик. Наташа машинально потерла лоб. Третий глаз исчез. На месте его остался едва ощутимый шрамик, который легко запудрить.
– Присоединяйся, куколка! – пригласил Сергей, захлопывая ноутбук, и махнул официанту.
Они сели за столик, заказали глинтвейн.
Ночевать поехали к Наташе.
Оксана Лисковая
Семинары Юрия Кузнецова, Олеси Николаевой, выпуск 2000 года Заведующая учебным отделом
Селедка на пляже
Место действия: московская больница, второй этаж.
«…Считает себя больной в течение 20 лет…»
Завтрашняя вена
Ночью не спала.
Я не боялась операции. Я верила в свое везенье. 18 октября оно было повсюду, оно окружало и щекотало коленки, тащило мой рюкзак и включало вовремя зеленый свет. К тому же оперировать предстояло не мне – и это тоже было большим плюсом.
Я нервничала – и боялась больницы как природной аномалии, как непонятного вопроса, как незнакомого места, как высоты. Больница откликнулась на мои страхи. Пройдя через главный вход, я посмотрела на указатель, чтобы дойти до нужного мне корпуса, и увидела:
«четвертый с половиной корпус морг». Икнув, я сначала достала бумажку с адресом и сверила: все было точно, мне туда, в морг. Потоптавшись на дорожке и неуверенно посмотрев в небо, я позвонила врачу:
– Здравствуйте, это я.
– Здравствуйте, – появился в телефоне Л. А.
– А вы уверены, что мне в четвертый (фиг с ней, с половиной) корпус?
– Да. А что?
– Спасибо. Сейчас буду, – в конце концов, если врач хороший, какая разница, куда идти?
В десять ноль семь я поставила рюкзак возле своей новой кровати и полетела оформлять бумаги в приемное отделение. Пока Л. А. показывал его из окна, все было отлично, только руку протяни, но как только я вышла, корпус немедленно исчез. Обежав территорию больницы несколько раз и поняв, что вернуться обратно – это отдельная история, я, наконец, попала сквозь курящий медперсонал в нужные мне оформительские коридоры с узкими закрытыми дверьми, на одной из них было написано «Зав. пр. отделением». Я постучала тихонько, потом громче, подергала дверную ручку. Из лабиринта на стук выскочила дама в халате с отлично выбеленными волосами, уложенными в замысловатые хохолки:
– Что вам нужно?
– Заведующего отделением, оформиться.
– Не ломайте двери! Я сейчас вернусь и оформлю вас, – белые хохолки исчезли.
Слоняясь по коридору, я оценила просьбу: дверь в ее кабинет и несколько соседних выглядели не очень, я бы даже сказала, нездорово, внизу были вмятины, о происхождении которых я предпочла не думать. Села на банкетку и стала ждать. Появившись через полчаса и пригласив меня в кабинет, заведующая сообщила, что направление в больницу выписано неправильно – мой врач «царь-эгоист-надоел-сколько-раз-говорить» плюет на чиновничью мораль. Пока она писала в большой амбарной книге, я подумала, что как профессиональный чиновник я ее понимаю. Записи в таких книгах должны быть четкими, а в личном деле только правильные бумажки, канцелярия требует к себе любви и сочувствия. Но… Л. А., нарушая правила крашеной дамы, поступил, пожалуй, хорошо, правильная бумажка занимает слишком много в нашей жизни… и я часто нарушаю… я только на мгновенье представила, сколько бы еще заняло времени получение правильного направления… сколько нужно услышать… еще найти печать… как обычно… человек вторичен…
– А ваш участковый?
– Что? – прибавив Л. А. плюс, удивляюсь я. Лет пять уже не была у своего участкового врача, даже не знаю, как он выглядит, даже примерно.
– Лентяй никчемный… – сердится дама, потому что мифический участковый не направил меня к кардиологу по поводу брадикардии.
– Брадикардия в вашем возрасте? Вам сколько лет?
– Не знаю. Тридцать семь или тридцать восемь… кажется, тридцать восемь… одну минуточку, – я вынимаю из кармана сумки телефон и включаю там калькулятор – нужна же точность.
– О как! – восхищается дама.
– Тридцать семь, – без ошибок сообщаю я, разделяя ее восторги. Мне нравится телефон, внутри которого живет калькулятор.
– О как! – с восторгом повторяет дама.
– Мне не до того, – как-то глупо улыбаюсь я.
– И не до брадикардии! А вы ведь не спортсменка! Это для спортсменов замедленное сердцебиение даже хорошо. Это защитная реакция! А для вас – плохо, в таком-то возрасте.
– А в каком хорошо? – достаю я снова телефон, чтобы разузнать у калькулятора, когда будет хорошо.
– Для вас – ни в каком.
Я засмеялась, спрятала телефон и спросила, ощутив внутри охлаждающий хорошее настроение мистический ужас:
– Мне домой ехать?
Мама привезла меня в больницу. Мне восемь лет. Мы стоим в белом помещении. Большая женщина в ужасно мятом желтоватом халате ходит туда-сюда, садится, что-то пишет. Мне хочется обратно, хочется плакать. Но я молчу. Я заболела, меня привезли лечить. Я раздеваюсь. На мне теперь нет ничего своего – чужая пижама велика и противно колется. Женщина берет меня за руку, приглашая пройти дальше в бесплатную советскую медицину. Медицину я помню – рыжеволосая медсестра и щелкающие между собой железные иголки шприцев, сладковатый запах в рентген-кабинете, дурацкое белое постельное белье с голубыми буквами «минздравминздравминздравминздрав». В палате двенадцать человек. Все одинаково больные. Я ложусь на кровать и отворачиваюсь, пытаясь разгадать, что такое в-ар-д-з-н-и-м-и-н-з-д-р-а-в-м-и-н-з-д-р-а-в-м-и-н-з-д-ра-в-а-р-д-з-н-и-м. У меня воспаление легких, которым я заболела в детском санатории, где тоже от чего-то лечилась.
Вернулась в свое отделение, постучала в ординаторскую, отдала в чьи-то незнакомые руки подписанные бумаги, и откуда-то из-за шкафа сначала что-то хлюпнуло, а потом вынырнул голос Л. А:
– Проходите в палату, осваивайтесь.
Мне вдруг показалось, что все это неправда, захотелось сбежать, но я пошла осваиваться.
Освоение палаты, в сущности, дело простое – она состоит из четырех стен, двери, раковины, окна, пяти кроватей и нескольких старушек.
– Здравствуйте! – громко кричу я. – Меня зовут…
– А нам не нужно знать, как вас зовут, мы выписываемся.
На окне жалюзи, решетки, а за решетками – береза, по которой прыгает и веселится синица, осваивая ее ветки. Пока я переодевалась, пялясь на синицу, мысленно разговаривала с собой, чтобы не оставаться в одиночестве; пока вынимала из рюкзака разные вещи, мое сознание разделило их на больничные и городские. Больничные были быстро и брезгливо брошены в тумбочку, а городские аккуратно сложены и спрятаны. Засунув пакет с городскими вещами под высоченную кровать, я забралась на нее, стала читать книжку и завидовать выписывающимся старушкам, которые сказали, что мое имя им знать не нужно.
Почти одновременно со мной появилась еще одна пациентка.
Старушка Недовольной Дочери.
У нее молодой и почти идеально красивый доктор – Красавец. Старушке 81. Ее перевели сюда из другой палаты. Она строго соблюдает режим дня:
1. Завтрак.
2. Сон.
3. Обед.
4. Чтение журнала.
5. Сон.
6. Ужин.
7. Чтение того же журнала.
8. Сон.
Пункт второй, пятый и восьмой соблюдался особенно строго:
– Десять часов! Гасите свет.
Свет горел над моей кроватью, как в поезде. Я удивилась и сделала вид что не слышу.
– Девочки, десять часов! Соблюдайте режим дня! Гасите свет.
Я застеснялась, хотя попыталась возразить, но свет выключила и ушла в коридор. Из-за этого предоперационная бессонная ночь продлилась на три часа дольше – из коридора медсестры выгнали меня спать, пришлось смотреть в потолок.
Удивительно, что режимная бабулька постоянно свивается в кровати под двумя одеялами в своих бесконечных снах. А казалось, должна быть традиционная бессонница.
К старушке приходили дочь и зять.
Дочь ворчит:
– Ой! Ну что ж тебя сюда перевели. Как нехорошо! Там ты одна была в палате, а теперь?
– Вы знаете, – обращается ко мне, – это ужасная больница. Сюда лучше не попадать (а у меня завтра операция), здесь все за деньги. У нас все свое, и лекарства, и все остальное, ну знаете, да? И вообще – безобразие. Кипятка не дают! Эта мне сейчас устроила скандал. Та давала, а эта нет. Здесь никто никому не нужен.
Кипятка правда не дают, я тоже попросила кипятка, так как у меня был свой чай. Мне налили чай из чайника с номером, я испугалась и вылила номерной чай в раковину. Лучше пить воду.
После операции, когда мне разрешили ходить, Старушка Недовольной Дочери дала мне свою палку. Я попробовала, чтобы не спорить с ней, но все-таки отказалась. Потом она учила меня скручивать бинты:
– А ты почему вторую ногу не бинтуешь?
– Врач сказал, что не надо.
– Ты не слушай их, они скажут. Ты бинтуй! Вот у меня отекло, а почему, непонятно. Я бинтую.
Пытаюсь возражать, я-то Л. А. строго и ответственно доверяю. Старушка со мной спорит. Моя Сестра-Ангел говорит мне шепотом: «Соглашайся». Я обещаю бинтовать, но заранее вру.
В пятницу Старушку выписывают.
Пришли дочь и зять, помогают ей собраться.
– Надевай вот это пальто, машина у корпуса.
Я немедленно вспомнила надпись на воротах: «Проезд машин только по пропускам».
– А вас пропустили? А разве можно? А как?
– Как у нас все? За деньги. Дали охраннику.
– А-а-а-а, – утыкаюсь я в книжку.
Старушка Недовольной Дочери пошуршала своими вещами совсем по-хомячьи, словно оказалась в комке ваты, и легла спать, подложив под щеку глянцевый журнал. Я посмотрела на часы – начало первого. В Чикаго три часа утра, в Петропавловске-Камчатском – полночь, в больнице – вневременно. Спрятала часы, попробую измерять время прочитанными страницами.
Через пятьдесят восемь страниц пришел мой царственный Л. А. и стал что-то спрашивать, записывать, смотреть ногу. Я встала на самый край кровати, сообщив:
– Высоко! Ничего не вижу, – поскольку стояла к этому краю спиной, а сказать, что боюсь высоты, постеснялась.
Так же, не видя, подписала бумаги, где разрешала оперативное вмешательство. Профессиональный инстинкт требовал прочтения этого текста – просто так, я же понимаю, что все равно подпишу. Может быть, пару страниц? Но буквы отчего-то отвернулись от меня и не стали читаться, видимо, текст по каким-то причинам решил меня проигнорировать и не остался со мной даже в виде копии. И несмотря на то, что мой внутренний чиновник понимал: копия должна быть, – я как-то неактивно наблюдала, как подписанные бумаги уплыли с тумбочки и потерялись в белизне врачебного халата.
Пообещав встречу с анестезиологом и три укола с утра, чудо-доктор-царь удалился вместе с бумагами и халатом.
Я стала ждать, через несколько страниц узнала, что туалет в больнице – прям как у нас в институте, один на двоих – для мальчиков и девочек, и мальчики, естественно, там курят. Старушка Недовольной Дочери и Вера Ивановна возмущены: отложили свои читальные принадлежности и с азартом ругают туалет.
Вера Ивановна.
Примерно семьдесят два года. Лежит повторно. В этот раз на терапии. Полтора года назад Л. А. поймал у нее в животе тромб. Она на него жалуется:
– Тромб был в ноге, он хитрый, не стал его удалять, а потом поймал в животе.
– Ну и как? Удачно? Последствий нет?
– Нет, но вот что ж он его из ноги не вырезал? Из ноги проще!
У Веры Ивановны погиб в автоаварии младший сын, почти мой ровесник. Она живет с внуком и его девушкой.
Рассказывает какие-то непонятные мне истории с квартирами: в результате ее желания сделать всем лучше она оказалась в коммуналке. Между делом удивляется, что Л. А. меня сегодня три раза навестил. Ей со мной можно поговорить, я слушаю и читаю. При мне к ней никто не пришел. Но по телефону звонили подруги и внук, она всем сказала, чтобы не приходили, они и не приходили. Так ведь удобно, правда? Вечером предлагала ей крем для лица – отказалась.
Я к такому устройству туалета равнодушна, мне все равно, в детском саду тоже такой был, правда, мальчики еще не курили.
Потом доктор пришел еще раз, что-то, видимо, говорил или спрашивал, но я тут же все забывала, к тому моменту я прочитала почти сто пятьдесят страниц и боялась, что книг хватит только на один день, потому, перебив его, я капризно сказала:
– Почему нельзя было приехать вечером? Надо было мне вечером приехать.
– Как вечером? – спросил Л. А., смешно приподнимая брови и нос.
– Ну что мне тут делать целый день? Ужас!
– Ну, вы к нам привыкнете, мы к вам.
Царь ушел. Я уткнулась в книжку с твердым намерением не привыкать, а скорее выписаться.
Я мерзла, совершенно непонятно, по каким причинам, похоже, больше никто не чувствовал холода, время было потеряно, зато тревога и холод стали вполне телесными ощущениями. Начиная замерзать, я выскакивала с книжкой и телефоном в коридор. Говорила. Читала. Говорила. Ходила. Возвращалась. Смотрела в окно на синицу и мерзла. Мерзнуть стало даже приятно. Наверное, я привыкала.
За распахнувшейся палатной дверью неожиданно возникло что-то большое и зеленое. Я подняла голову и обрадовалась, мне подумалось, что анестезиолог уже не придет, почти вечер, синица исчезла. Споткнувшись в буквах моей фамилии, зеленый и большой посмотрел на старушек и позвал в коридор. Я весело (наконец хоть что-то дельное) выпрыгнула из кровати, к которой уже примерзла, и понеслась за ним в коридор, одновременно подумав, что вот так сидеть, скрестив ноги, я могу последний день.
– Вас как зовут?
– Ак…
– Неважно, я анестезиолог – у вас, наверное, работа сидячая?
– Сидячая?
– Ну да, вот и результат – больные вены. Да?
– Похоже на то. Можно не спать на операции?
– Можно. Вам когда-нибудь делали наркоз?
– Не раз.
Мне одиннадцать лет. Я прихожу в себя после операции, после снятия повязки, и живу дальше. В палату заглядывают врачи. Я уже не помню их лиц, и имен не помню, а вот их движения, ощущение их настроения возвращаются ко мне легко. Все хихикают и подмигивают, особенно мужики. Спустя много лет мама рассказывает: приношу передачу, врач просит зайти и спрашивает, какая у нас в доме семейная обстановка, как в школе? Мама говорит, что все нормально (а так и есть в целом, если не считать моего характера). И тут врач ей говорит:
– Ваша дочь тАААк ругается матом! Откуда она знает тАААкие слова, а главное – их управление! У нас шок был в операционной! Мы смеялись. А потом все ходили на нее посмотреть, даже студенты.
Мама не знает. Маме стыдно. Мама у меня матом вообще не ругается! А я – советская девочка, пионерка, выражаю свое отношение к жизни под наркозом вполне безответственно.
– Это в позвоночник?
– Да.
– Это больно? – я боюсь, что это больно, совсем не хочу больно, к тому же, по дурости мне представляется, что иголка во мне застрянет, сломается, и будет землетрясение. – Нет, не больно. Потом нужно будет пить много воды. А с семи утра нельзя.
– Хорошо, буду пить.
– Аллергия есть?
– Есть. Аспирин.
– Да, хорошо, я понял. Какие будут пожелания?
– Пожелания? А что за пожелания? – удивляюсь я.
– Ну-у… разные бывают.
– Какого рода? – На самом деле я бы что-нибудь пожелала, мне тоскливо здесь, но в замкнутом пространстве желания сами собой как-то не приходят в голову – за тебя желают врачи. К тому же, нужно запомнить кучу того, что они говорят, хотя в целом это бессмысленно – говорят они быстро и тихо, не записал – привет. Если бы я знала, как будет в операционной, я бы, конечно, пожелала одеяло, или шерстяную простынь, или операционный стол с подогревом, или надпись на потолке «не спи, товарищ». Но я ничего не знаю.
– Ну, вы уже пожелали! Я завтра утром зайду, может, что придумаете, – и убежал, исчез в вечернем коридорном пространстве.
Пришел Л. А., сказал, что дадут на ночь феназепам: «Перед операцией нужно хорошо выспаться». Я отказалась. Он поуговаривал, сошлись на том, что «беленькую таблеточку» дадут, а я могу не пить. Могу не пить.
Могу бродить по коридору и придумывать желание (я бы руки оторвала дизайнеру, подделавшему коридор под длинную, выплывшую на поверхность синеватую вену). Темнеет, врачи уйдут домой, останутся не выписанные старушки в палате. Может, им пригодится мое имя?
Плавая мимо сияющих синевой дверных стекол, я оказалась у поста медсестер, это где-то в центре коридора. В центре сообщили секрет: во-первых, я больная, во-вторых, нужно делать клизму и на операцию ехать голышом.
А я-то подошла в центр и спросила: «Как одеваться?» Хорошо хоть брови накануне покрасила. Видимо, Л. А. был прав, что велел приехать в десять утра. Как выяснилось несколько позже, больница – это не увеселительное заведение. А жаль. Я скорчила рожу и по совету сестер побежала в ординаторскую сообщить, что я есть не буду (возможно, никогда). Фиг вам. (Попросить противошоковое?) Тот же анестезиолог (а может, и не он, но тоже абсолютно зеленый) жалостно сказал:
– Это завтрашняя вена?
Царь, не оборачиваясь, кивнул.
– Лучше проклизмиться, а то после наркоза тяжело.
Вероятно, где-то здесь, удаляя имя собственное и превращая тебя в диагноз, больница радостно поглощает твое привычное сознание. Здесь – другая свобода. Замыкая пространство бело-синими призрачными дверями палат, прикроватными тумбочками и однокрылым водянистым коридором, она отбирает привычки, условности и даже мечты. Есть только назначения и желание выполнить их с точной безусловностью. Приходящие к тебе из мира люди уже несут другой заряд жизни – жизни, которую ты забыл, вот так сразу, выполнив странное «привыкать». Я пометалась в палате: клизма – это слишком страшно. Сначала мне захотелось спрятаться, чтобы меня не нашли, потом достала рюкзак – собраться домой, почти заплакала, не соображая, почему так боюсь «клизмиться», и поняв, что делаю что-то не то, что из-за этого из больниц не уходят, я выбежала в коридор звонить своей подруге.
Мы стоим с Викой в туалете у окна, обнимаемся и плачем. В окнах напротив горит желтый домашний свет, а не белый, как здесь. Вика ехала в пионерский лагерь в Крым. Автобус вылетел с серпантинной дороги. Она сидела рядом с папой. Напротив, у своего папы на коленях, сидела маленькая девочка и ела черешню. Отец выковыривал ей косточки и давал только мякоть, потом протянул горсть Вике. Последнее, что она помнит, – маленькая девочка вылетает в окно, а на каких-то кустах висит чья-то сандалия, черешня и рука с часами. Вика тогда ослепла. Ей делают не первую операцию. Она уже видит. Всех, кроме своего папы. Папа у нее погиб.
Мы плачем, рассматривая сквозь прыгающий желтый свет чужое безболезненное благополучие.
– Ну, хватит, – говорит Вика, – плакать нельзя. Если увидят, накажут.
Наказанным детям медсестры делали клизму или раздевали и ставили на стул в палате или в столовой во время общего ужина. Дисциплина – важная часть власти, часть больничной жизни. Кому об этом расскажешь?
– Если бы Завтрашней Вене сказали об этом заранее, – плакалась я подруге, – я бы перестала есть за два дня, и никакого кофе с утра, даже если он пахнет остро и сладко, понимаешь, когда я вдыхаю кофе, мне кажется, я взлетаю, как счастье. И йогурт долой.
– Клизма – это прекрасно! Дали́ бы одобрил! Понимаешь?
Выставка Дали, которую мы посетили почти перед больницей, была веселой. Мы выкатились из здания на Волхонке, пружиня от смеха, очередь, мимо которой мы шли, оглядывалась.
– Девочки, что там? – спросил нас бледный мужчина с тростью.
– Ужасно смешно! Не художник – восторг! Обхохочешься.
– Серьезно?
– Ха-ха-ха! Очень!
– К тому же, бесплатное очищение организма! Люди платят деньги, а тебе – пожалуйста! – разумно утешала далианская подруга.
– Пожалуй, – согласилась я, рассевшись на подоконнике и наблюдая за лифтом, который открывал двери и показывал, кто у него внутри: за врачами стояло что-то розовое и вздыхало, – ой!
– Что там у тебя?
– Так, что-то розовое проехало на лифте.
– Дали бы зарисовал.
После сведений о «клизмиться» особенно нас порадовал феназепам, который я попросила медсестер не давать. Все это в своей неожиданной логике развеселило, и, обсуждая по телефону с моей далианской подругой способы бесплатного очищения организма, нарушая всякие покойные настроения режимного острова, мы несколько раз с восторженным смехом повторяли:
– Сделать клизму, выпить феназепам и проснуться в… в тепле… вот и утро наступило!
Я успокоилась, беспричинный страх ушел. Может быть, у меня не было аппетита, а может, в том непрочитанном тексте есть пункт 3.6.4. «выполнять, что обещала» – есть я перестала. И так, на всякий случай, с семи вечера перестала пить.
Температуру не знаю.
Соленое вредно
Ночью не спала. Пространство замкнулось, время исчезло. Я смотрела в потолок, слушала плеер, который привычно исполнял венский католический концерт, пытаясь перебить крик бабы Зины, чья кровать разделяла пространство между мной и Верой Ивановной.
Баба Зина.
Баба Зина появилась внезапно, во вторник к вечеру, семьдесят шесть лет. У нее один сын и невестка. Сломана нога. Она лежачая. В подгузнике. Очень неухоженная. Лохматая. С грязными руками и ногами и бородатым подбородком. Речь после инсульта нечеткая, одна рука не двигается. Сын пришел с ней. Оставил пачку подгузников, воду, погладил ее по щеке и ушел. Никто ее не кормил. Она кое-как пила. Днем спала. К вечеру просыпалась и начинала кричать. – Где я? Где я? Господи, что я такого сделала? Мама!
Л. А. был недоволен тем, что ее положили. Я тоже – она меня пугала. Именно своей старостью. Часть ночи до операции я уговаривала себя не бояться, что у меня все будет по-другому. Все проходит гораздо быстрее, чем хочется, и совсем не хочется быть беспомощной, всем мешающей и вот так лежать на кровати, кричать всю ночь и знать, что ты никому не можешь понравиться – совсем. Я смотрела на нее в свете уличного фонаря и пыталась понять, какой она была раньше: непримиримо красивой? Кто знает? Может, она думает, что эта страшная больничная кровать – не для нее, не навсегда, надеется выздороветь, а врачи вокруг точно знают, насколько эта надежда неправдоподобна, и делают, что могут. Я лежу рядом, слышу ее, жду десяти утра, своей операции, и не хочу стареть.


