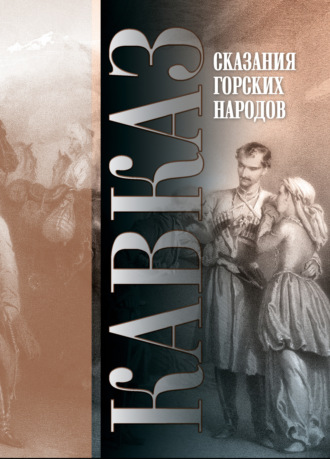
Сборник
Кавказ. Выпуск XXVI. Сказания горских народов
Лебедь
В одной стране, в осенний вечер, когда солнце пряталось за дальним лесом, сын хана, юноша Аслан-Гирей, с охоты домой возвращаясь, проезжал по улице селение и около колодца остановился коня напоить.
Девушка в кувшин воду набирала, и на Аслан-Гирея не взглянула, а он на нее засмотрелся.
Подобно дикой розе, растущей в степи, была красива и свежа девушка, и глубоки были ее глаза, черные как ночь, а ее щеки заря утренняя нарумянила.
Долго смотрел на нее ханский сын и коня забыл напоить.
Оглянулась девушка на него.
– Охотник, – сказала она ему, усмехаясь, – что же ты коня не поишь?
И от этих слов, от улыбки ее сердце его радостно забилось и тихо он промолвил:
– На тебя залюбовался я, милая девушка.
Показывая белые, как снег, зубы, засмеялась она, вылила из кувшина воду в каменное корыто и сказала:
– Пусть пьет твой конь…
И глаз не спускал с нее Аслан-Гирей.
– Чья ты дочь, милая девушка? – спросил он. – Как зовут тебя?
– А на что тебе знать это? – возразила она.
И по-прежнему усмехалась, а глаза ее манили, звали к себе…
– Ну, – сказала она потом, – скажу, чья я дочь… Мой отец бедный человек, огородник. Вместе разводим мы овощи, продаем их на базаре в городе…
– А звать тебя как? – спросил Аслан-Гирей.
– Не скажу своего имени, – ответила девушка.
Со степи два лебедя летели, низко пролетали они над колодцем.
Аслан-Гирей быстро взял лук, стрелу вложил, прицелился.
И громко вскричала девушка:
– Охотник, охотник, не убивай этих птиц!
Но Аслан-Гирей уже пустил стрелу… Взвилась она и в лебедя попала.
В последний раз лебедь взмахнул крыльями и тяжело упал на землю около колодца.
Девушка к нему подбежала и увидела, что стрела пробила ему грудь, кровью окрасились его белые перья, и бился он в предсмертной муке.
Склонилась она над ним, и лицо ее запечалилось, а на глазах показались слезы.
Подняла она голову и увидела, что другой лебедь взвился вверх, кружился над селением, громко кричал, и жалоба слышалась в его крике.
Увидел Аслан-Гирей, что плачет девушка, удивился.
– Милая! – воскликнул он. – Тебе лебедя жаль?
Она не отвечала и смотрела на умирающую птицу.
Помолчал Аслан-Гирей и сказал:
– Девушка, ты не говоришь мне своего имени, я и не буду спрашивать о нем, а назову тебя Лебедем…
– Нет, нет! – вскричала она. – Не называй меня Лебедем – это имя несчастье мне принесет. Зови меня Гульнара, тем именем, которое дала мне мать.
К колодцу подошел старик-нищий и, сняв шапку перед Аслан-Гиреем, заговорил, униженно кланяясь:
– Сын славного хана! Глаз твой верен и тверда рука! Я видел, как поразил ты птицу, и сказал себе: так стреляет только отважный Аслан-Гирей, сын могучего хана.
И кланялся старик, к земле припадая…
Достал Аслан-Гирей из кармана золотой, бросил нищему.
– Прощай, Лебедь прекрасный! – крикнул он девушке, ударил плетью коня и помчался.
Гульнара посмотрела ему вслед.
– А я не знала, что он – сын хана, – сказала она старику.
Старик не слушал ее: спрятав золотой, он вынул из ножен, висевших у него на поясе, нож, прирезал лебедя и, взвалив его на плечо, пошел.
– Вот, – сказал он девушке, – как случилось: целый день был я голоден, потому что не за что было хлеба купить, думал, что и завтра буду голодать, но Бог не забыл старого Мустафу.
На другой день Аслан-Гирей был в селении, как и в прошлый раз, один.
Ехал он в лес на охоту, а сам думал о Гульнаре…
Направился он к колодцу и на дороге встретил вчерашнего нищего, который едва завидел его, шапку снял и униженно кланялся.
– О, храбрый сын славного хана, – запел было он, но Аслан-Гирей остановил его.
– На вот тебе, старик, – бросил он ему золотой, – только и ты услужи мне: укажи дом отца Гульнары…
Держа шапку в руках, провел старик Аслан-Гирея на край селения, до старого домика с огородом и садом.
Подъехал Аслан-Гирей к воротам и громко крикнул:
– Лебедь, Лебедь!
На крик вышел Меджид, отец Гульнары, уже старый человек, узнал Аслан-Гирея, шапку снял.
– Добро пожаловать, молодой хан, – проговорил он, кланяясь.
– Мой конь устал, дай отдохнуть ему в твоем дворе, – сказал Аслан-Гирей, слезая с коня.
Из дома вышла Гульнара, и щеки ее вспыхнули, и потупила глаза она.
Радость охватила Аслан-Гирея.
– Лебедь, – проговорил он, подойдя к ней. – Милая девушка, люблю я тебя…
И тихо отвечала ему Гульнара:
– Не смейся, хан, над бедной девушкой.
– Я не смеюсь, – сказал Аслан-Гирей, – я люблю, люблю тебя, моего милого Лебедя… Скоро наступит время, когда я должен буду взять себе жену, и возьму я дочь твою, – сказал он Меджиду.
Отвечал ему старик:
– Воля твоя, молодой хан. Но подумал ли ты о том, что скажет отец о твоем намерении? Ведь старый хан не захочет, чтобы женой твоей была дочь огородника…
– О! – весело воскликнул Аслан-Гирей. – Я об этом не беспокоюсь: для любимого сына отец все сделает…
Вздохнул Меджид.
– Воля твоя, – покорно промолвил он.
Хан удивился, что сын его стал часто ездить на охоту, а домой возвращаться без добычи, и еще сильнее удивился, когда узнал, что никто из слуг не сопровождает его на охоту.
И призвал он Аслан-Гирея.
– Что случилось с тобой, что охота твоя стала неудачной? – спросил он.
– Бог не посылает удачи, – ответил сын.
– А почему ты один ездишь на охоту, не берешь с собою слуг? – продолжал хан.
Потупился Аслан-Гирей.
– Я теперь сокола вынашиваю для охоты, и слуги мне не нужны, – проговорил он и покраснел, потому что солгал он отцу – сокола не вынашивал он.
Испытующе посмотрел на него хан, нахмурился.
– Завтра на охоту ты не поедешь! – сказал он. – Иди.
И целый день протосковал по Гульнаре Аслан-Гирей, ночь спал неспокойно, а утром вышел к отцу бледный, осунувшийся.
Испугался хан.
– Что с тобой? – спросил он. – Ты болен?
– Голова болит, – отвечал Аслан-Гирей. – Поеду в степь, освежусь…
Отпустил хан сына, а как только он уехал, призвал сановников и долго советовался с ними, где найти достойную для сына невесту, и потом поручил трем сановникам поехать в соседние страны посмотреть ханских дочерей.
Старый Мустафа в город притащился, к ханскому дворцу пробрался и стал у ворот, сняв шапку.
Сановник увидел его спросил:
– Что тебе, старик, надо?
И, униженно кланяясь, Мустафа отвечал:
– Хана мне видеть надо, чтобы сказать ему то, что, кроме него, никто не должен слышать.
И сановник привел его к хану, а сам удалился.
Упал, распластался перед ханом Мустафа и заговорил:
– О, луч солнца! О, великий, могущественный хан! О, добродетель, которой нет равной на земле.
Нахмурился хан и крикнул:
– Перестань выть и скажи, что тебе надо?!
И Мустафа, продолжая лежать, рассказал хану о том, что сын его Аслан-Гирей, красоте и доблести которого нет и не может быть равного, полюбил дочь бедного огородника, живущего в селении. И каждый день он приезжает к ней, от нее не отходит ни на шаг, ибо очаровала она его своей красотой. Но красота ее не от Бога: ее мать ведьмой была и умерла странной смертью: вниз головой в колодец она упала и захлебнулась в нем. И воду народ из колодца не брал до тех пор, пока мулла не прочитал над ней очистительной молитвы. И очаровала, совсем очаровала красивая Гульнара молодого хана: как простой работник, как раб, он копается с ней в земле и садит овощи…
Хан чуть не задохнулся от гнева.
– Ты… собака презренная, – проговорил он, тяжело дыша. – Если ты еще кому-нибудь скажешь хотя бы одно слово, я предам тебя мучительной смерти…
– О, великий хан! – воскликнул Мустафа. – Для других я нем, как камень… О, я знаю, ты взглянешь оком милосердия на презренного раба твоего…
Хан хлопнул в ладоши и сейчас же перед ним предстали трое слуг.
– Возьмите этого старика, – указал он на Мустафу, – бросьте в темницу…
Слуги схватили нищего и поволокли.
– Эй? – крикнул хан. – Вернись кто-нибудь.
Слуга приблизился к хану, а тот провел рукой по горлу, кивнул головой на Мустафу.
Слуга поклонился и вышел.
Привели Мустафу во двор темницы.
Тот слуга, которому хан отдал последнее приказание, сказал ему:
– Посмотри, старик, как много летит лебедей!..
Мустафа глянул вверх, а слуга ударом ножа перехватил ему горло, а потом отрезал голову.
Труп Мустафы бросили в городской ров на съедение собакам, а голову показали хану.
– Выбросьте эту дрянь, – сказал хан.
Сидел он один и думал о сыне.
– Гм… Понимаю теперь, почему он на охоту один ездит и без добычи домой возвращается, – проговорил он и задрожал от охватившего его гнева.
– Шума делать не надо, – говорил он потом сам себе, а достаточно послать двух воинов, чтобы прикончили огородника и его дочь и сожгли чертово гнездо. И сыну ничего не скажу, чтобы потом меня не проклинал…
Хотя и наедине говорил Мустафа хану об Аслан-Гирее, но и у стен были уши: за дверью стоял слуга ханского сына и все слышал.
И тихо, как кошка ступая, удалился он от двери, подобно тени шмыгнул в комнату своего молодого господина и там долго шептал ему на ухо.
Побледнел Аслан-Гирей, задрожал.
– Что же делать? – спросил он слугу. Тот пожал плечами.
– Не знаю, – ответил он. – Советовать не могу, но одно знаю: огороднику и его дочери не быть живыми.
И, поклонившись, вышел слуга.
Задумался Аслан-Гирей.
– Как быть? Что делать? – спрашивал он себя. – Пойти к отцу, признаться в своей любви к Гульнаре уже поздно: донос проклятого нищего сделал свое дело…
И поспешно он вышел, направился в конюшню, коня оседлал, вскочил на него и помчался в селение.
Около дома огородника остановил коня и громко крикнул:
– Лебедь, Лебедь!
И на зов выбежала Гульнара, смеющаяся, и старый Меджид подошел.
– Беда грозит нам великая, – проговорил Аслан-Гирей и рассказал о том, что во дворце хана произошло.
Вскрикнула Гульнара, руками всплеснула.
– Что же делать? – в тоске вскричала она.
– Бежать всем троим надо, – сказал Аслан-Гирей. – Пройдет немного времени, гнев отца уляжется, я вернусь домой и тогда женюсь на тебе, мой Лебедь, моя радость.
А старый Меджид послушал-послушал, проговорил:
– Как я говорил, так и случилось. Но прошлого уже не поправишь, надо думать о будущем. – Вы, – сказал он дочери и Аслан-Гирею, – бежите, а я останусь: я – человек старый, смерть давно ждет меня, и гнев хана мне не страшен…
– Отец! – вскричала Гульнара, бросилась к отцу, обняла его, заплакала, умоляла бежать.
Старик был непреклонен.
– Я останусь, – твердил он, – а вы бежите. Уже пора – погоня ханская может настигнуть вас.
Взял к себе в седло Аслан-Гирей плачущую Гульнару.
– Прощай, отец! – сказала Гульнара.
– Прощай, Меджид! – крикнул Аслан-Гирей.
– Прощайте, дети мои! Бог благословит и спасет вас! – сказал старик и заплакал.
Ударил Аслан-Гирей коня… Рванулся конь, поскакал.
А старик стоял одинокий, беспомощный, и текли слезы по его щекам.
По дороге со стороны города пыль поднялась – ханские воины мчались.
Прискакали к дому Меджида, стали спрашивать, где дочь его и сын хана?
– Не знаю, – ответил старик.
Обыскали воины весь дом, двор и огород и опять принялись допрашивать старика.
Молчал Меджид, и тогда один воин ударил его по голове кинжалом.
Сильный был удар, и старик мертвым упал.
– Вот как! – удивился воин. – Ведь и ударил-то я слабо, значит, голова у старика была плоха.
Потом подожгли воины дом, бросили в огонь труп Меджида.
* * *
В чужой стороне, в большом городе жили в бедности Аслан-Гирей и Гульнара. Золота не успел захватить с собой Аслан-Гирей и, когда были прожиты деньги, вырученные от продажи коня, пришлось жить трудами рук своих: на базаре Аслан-Гирей тяжести переносил, а Гульнара работала в богатых домах черную работу.
Но они были молоды, сильно любили друг друга, и бедность сначала не казалась им тяжкой.
На окраине города, в маленькой хижине рыболова жили они, и рабочий день их начинался рано утром и кончался ночью.
Усталые, обессиленные возвращались они в свою хижину и спешили броситься на жесткую постель, чтобы во время короткого сна набраться сил для предстоящего трудового дня.
Ладони рук Аслан-Гирея не раз покрывались кровяными волдырями, пока не затвердели и не покрылись твердыми, как дерево, мозолями. А нежную кожу на лице, на шее солнце сожгло, и из белой темная стала она.
Побледнели, осунулись розовые щеки Гульнары, и реже слышался ее счастливый смех.
Но бедность не страшила Гульнару, она и раньше знала ее, страшно было потерять любовь Аслан-Гирея: стала она замечать, что часто задумывался он и о чем-то тяжко вздыхал.
– О чем ты думаешь? – спрашивала она его и в глаза ему заглядывала, желая прочитать его сокровенную думу.
А он, не отвечая на вопрос, насильно смеялся, обнимал и целовал ее.
И тоска пала на сердце Гульнары, но она глубоко затаила ее.
Прошел год, у Гульнары родился мальчик, но он жил не долго, потому что в груди матери не было молока для него, а кормилицу не на что было нанять.
И плакала Гульнара над мальчиком, и от слез потускнели ее ясные, красивые глаза.
Аслан-Гирей наружно показывал вид, что тоскует по сыну, а сам был рад его смерти: лишняя обуза с плеч свалилась.
И Гульнара чувствовала это, и еще тяжелее стала ее тоска.
Проходили дни за днями в тяжелом труде, в бедности, доходящей до нищеты, и не было радости, не было светлого луча в этой жизни.
И угрюмее становилось лицо Аслан-Гирея.
Несчастье случилось с Аслан-Гиреем: тяжесть большую он поднимал, надорвался и упал. Сил у него не было добраться до хижины, и принесли его товарищи по работе.
И лежал он тяжко больной и медленно умирал.
А Гульнара с утра до вечера принуждена была работать, чтобы заплатить рыболову за хижину и купить хлеба.
Мало платили ей за работу, и часто этой платы не хватало и на зелень, а мяса давно уже не пробовала ни она, ни Аслан-Гирей.
С каждым днем таял Аслан-Гирей, и тоска камнем ложилась на сердце Гульнары.
Хозяин хижины сжалился над больным и привел к нему врача.
Тот осмотрел Аслан-Гирея, сказал, что вылечить его можно легко, но лечение обойдется в два золотых.
А где их было взять?
И ночью долго плакала Гульнара, а утром тщательно вымыла лицо, причесала волосы, починила платье и пошла в город.
Жил в городе один богатый купец; старый он был, а женщин очень любил и, чтобы казаться молодым, красил черной краской свою седую бороду.
Увидел он раз Гульнару, прельстился ее красотой.
– Женщина, подари мне свою любовь, а я подарю тебе золотой, – сказал он ей.
В то время Гульнара прокляла его и прочь пошла.
А старика еще сильнее охватила страсть к ней, и найдя ее на базаре, предлагал ей продать ему свою любовь и каждый раз увеличивал плату.
– Десять золотых, женщина, большие деньги, – сказал он ей в последний раз, а она проклинала его и плакала от обиды.
А в то утро она сама его искала и увидела его, покупающим мясо к обеду.
Он только взглянул на нее, позабыл о мясе, подошел к ней, тихо сказал:
– Женщина, двенадцать золотых – хорошие деньги.
Насильно усмехнулась Гульнара.
– Ты мне покою не даешь, – сказала она. – Что мне делать с тобой?! Жаловаться не хочу – боюсь сраму, но чтобы ты больше не приставал ко мне, я согласна продать тебе свою любовь за пятнадцать золотых.
Пошла, продалась и получила кошелек с золотом.
Прибежала в хижину и радостно воскликнула:
– Мой милый. Бог счастье нам послал: на базаре нашла я кошелек с золотом. Вот посмотри!
И высыпала перед Аслан-Гиреем золото, пересчитала.
– Пятнадцать золотых! – воскликнула она удивленно. – Есть чем заплатить за твое лечение!..
И поспешно сунув под изголовье Аслан-Гирея кошелек с золотом, побежала за врачом.
Врач явился и, получив два золотых, начал каждый день приходить к больному лечить его.
И стал поправляться Аслан-Гирей, а Гульнара осунулась, в глазах ее глубокая печаль легла, и уже не слышался ее смех, не могла она открыто взглянуть в глаза Аслан-Гирею.
Утром уходила она на работу и возвращалась с нее измученная, молчаливая.
Жадным оказался врач, и еще два золотых потребовал за лечение, и Гульнара отдала их. И таяли золотые: на лекарство они шли, на лучшую пищу для больного, на одежду для него, и пришло время, когда последний золотой был истрачен.
А врач потребовал еще два золотых.
– Это уж последняя плата, – сказал он.
И опять, как в то утро. Гульнара долго умывалась, чинила платье и ушла, а когда возвратилась в хижину, молча сунула под изголовье Аслан-Гирея кошелек с десятью золотыми, старик-купец больше не дал.
Губы у Гульнары дрожали и, взглянув на Аслан-Гирея, она вышла на двор и там упала на землю, долго лежала, как мертвая.
Аслан-Гирей не спрашивал ее, где она взяла золотые, и она ему об этом ничего не говорила.
И потемнело его лицо, и молчалив он стал.
Поднялся с постели Аслан-Гирей, но работать еще не мог и, набираясь сил, он по целым дням сидел на берегу реки, смотрел на рыбаков, закидывавших невода. Вечером за ним приходила Гульнара, и оба они тихо возвращались в свою хижину.
Однажды шли они домой, и вдруг Аслан-Гирей увидел, что навстречу им едет сановник его отца, окруженный свитой.
Еще издали узнал сановник Аслан-Гирея, быстро слез с лошади, его примеру последовала и свита.
И, кланяясь, подошел сановник.
– Приветствую тебя, сын великого хана, – сказал он, приложив руку к сердцу. – Много месяцев искал я тебя и уже заранее простился с жизнью, потому что был обречен на казнь твоим отцом, если вернусь к нему без тебя.
– Здоров ли отец? – спросил Аслан-Гирей.
– Тоска по сыну угнетает хана, – сказал сановник, вздохнул и запечалилось его лицо. – Глаза его меркнут от слез. Обрадуй его, отдали его смертный час…
И сановник, старая придворная лисица, всхлипнул, и слеза выкатилась у него из глаз, поползла по щеке, а он нарочно не смахивал ее.
И сердце Аслан-Гирея от боли сжалось.
– Бедный, бедный отец, – прошептал он.
И совсем он не думал о Гульнаре, а она стояла молчаливая, глаз не смея поднять на сановника.
Посмотрел на нее сановник и проговорил, вздыхая:
– Милое дитя, Бог наградит тебя за то, что ты не покинула в несчастье сына славного хана.
Тоска давила Гульнару.
– Славная девушка, – продолжал сановник, – чтобы предстать перед ясные очи хана, доблестному сыну его надо вымыться в бане и одеться в лучшую одежду. Поэтому, прошу тебя, на время ты оставь нас. Вот тебе, – протянул он ей кошелек с золотом, – оденься в самую красивую одежду, и потом мы заедем за тобой.
Гульнара покачала головой и кошелек не взяла. Взглянула она на Аслан-Гирея, а тот, как бы не замечая ее взгляда, отвернулся.
И голову уронила, тихо пошла прочь.
Год прошел.
Старый хан умер. Похоронил его Аслан-Гирей и стал править страной.
И старые и молодые придворные льстецы в дугу гнули перед ним свои спины, прославляли его мудрость и добродетели, а народ ниц падал перед ним.
Еще при жизни отца женился Аслан-Гирей на красивой девушке, дочери хана соседней страны, и полюбил ее. Счастливым он себя чувствовал после пережитых лишений, и казалось ему, что и на самом деле он обладает теми добродетелями и мудростью, которые восхваляли в нем придворные льстецы.
И наслаждаясь своим счастьем, в пирах и соколиной охоте проводил он время и ни разу не вспомнил о Гульнаре, совсем забыл он ее.
Только однажды, возвращаясь с охоты берегом реки, он увидел на нем мертвое тело женщины, которую только что вытащили из воды, куда она сама бросилась.
Заглянул он в лицо ей, и казалось оно знакомым ему.
«Гульнара, – подумал он, но сейчас же сказал себе: – Нет, я ошибся: это не Гульнара, это другая женщина. Гульнара осталась на чужой стороне и не пропадет она: умеет она добывать золотые».
И злобно рассмеялся он.
Два года еще прошло, и скуку стал испытывать Аслан-Гирей.
Каждый день он видел одно и то же: сановники изгибались перед ним, льстили и лгали, народ приветствовал его криком, и не радость, а страх слышался в этом крике.
Надоели ему пиры и охота, опостылела жена, ленивая, изнеженная женщина.
Тоска овладела им. Чего-то недоставало ему, но чего, он не знал…
И в одну бессонную ночь, лежа в постели, он вспомнил свою прошлую жизнь, вспомнил свою первую любовь. Гульнару вспомнил и лебедя, которого около колодца убил, и в тоске закричал он, рыдая:
– Лебедь! Мой милый Лебедь, где ты?!
И встал он с постели, вышел в сад и, бродя по темным аллеям, громко звал:
– Лебедь, Лебедь, где ты?
И спал сад, и глухая ночь молчала.
Из книги «Легенды Кавказа»
Машуко
Отчего потемнела степная даль?
Поднял ли ветер густую пыль с дороги, или же черная туча ползла перед дождем? Не пыль то была и не туча, а дым: горели аулы, подожженные крымскими татарами, полчища которых вел в Кабарду хан Каплан-Гирей.
По дорогам, по тропинкам бежали из аулов женщины, дети, старики, и горе сопровождало их. В лесную глушь, в горы забирались беглецы и, как звери, прятались в пещерах.
– Конец Кабарде пришел! – стонали старики, охваченные отчаянием, а женщины, в знак скорби, царапали свои лица до крови и голосили.
В степи строилось в боевом порядке кабардинское войско, но трусливый ропот уже прошел по его рядам, и заранее не надеялось оно на свою победу: не та уже стала Кабарда – раздоры, несогласие владетельных князей ослабили ее, и народ, забыв дедовские обычаи, успел развратиться, утратить воинственный дух. И ни в военных походах, ни в лихих набегах проводили время кабардинцы, а сидя в своих аулах.
Князья и уздени охотились в лесах, степях, пировали, устраивали конские скачки, ссорились между собой из-за пустяков и затевали побоища, а подвластный им народ работал на них, и в свободное от трудов время сидел в дымных саклях за чинаком бузы.
И висели на закопченной стене сакли винтовка, сабля и пистолет, а кинжалом рубили часто голову не врагу, а курице, когда надо было варить из нее суп.
До такого позора дожил кабардинский народ!
Выстроилось войско, и старый князь Алибек выехал перед ним на своем боевом гнедом жеребце и громко воскликнул:
– Воины! Враг многочислен и силен, и нам надо биться до последнего издыхания, чтобы победить его!
– Победим или умрем! – шумным криком ответили воины.
А из-за высоких курганов уже показались орды крымцев. Далеко растянулись они и вширь и вдоль, на конях, на высоких двухколесных арбах, запряженных волами и верблюдами, и пешие, как саранча, были они многочисленны, и земля гудела от топота ног, гул и стон шел по степи от человеческих голосов, скрипа арб, рева верблюдов и неумолкаемого крика ворон и коршунов, громадной тучей летевших вверху.
Князь Алибек махнул рукой, и трубач заиграл в длинную и тонкую медную трубу, и полились звонкие, чистые, как звон серебра, звуки и плакали в своих печальных переливах.
И тихо стало в кабардинском войске.
Замер последний звук трубы. Из переднего ряда войска выехал на сером коне бедно одетый и вооруженный одним только кинжалом чекуок (в древней Кабарде чекуоками назывались народные певцы) Батырбек и, повернувшись лицом к воинам, запел:
– Под синеющимися в степи курганами спят вечным сном витязи, гордость и слава Кабарды.
Вечная им память!
Страха не знали они: как орлы налетали, и сильны были удары их.
В груди их билось мужественное и великодушное сердце: вдвое сильный враг не видел их спины, обезоруженного и несчастного врага жалели они, и был он гостем у их очага.
Бог знает, откуда приходят тучи, тянутся над степью, плачут дождем, и ветер уносит их.
Другие тучи приходят, и также уносит их ветер, куда – Бог знает.
Уходит день, приходит ночь.
Тепло сменяет холод и холод сменяет тепло.
Уходят годы один за другим, как быстрая река бежит время и все изменяет: что сегодня любишь, возненавидишь завтра, что ненавидишь сегодня, завтра полюбишь.
Одно никогда не изменится: светлая память в народе о вас, благородные рыцари!
И в годину тяжких испытаний, постигших родину, ваши славные дела и подвиги, благородные рыцари, да послужат нам примером.
Кончил петь чекуок, и по рядам войска, подобно шелесту ветра, пронеслось:
– Аминь…
И опять зазвенели, заплакали, переливаясь печалью, звонкие и чистые звуки трубы.
Выхватил из ножен саблю князь Алибек и, взмахнув ею, воскликнул:
– Победим или умрем! Да поможет нам Бог.
И помчался навстречу крымским ордам, и следом за ним с криком и воем устремилось войско, и от топота конских копыт задрожала земля, тяжелым гулом наполнилась степь и тучи пыли поднялись над ней.
Как громадная стена, твердая и непоколебимая, двигались крымцы.
Налетели кабардинцы, смяли их передние ряды, но врубиться в средину войска им не удалось: слишком много было его, и на смену одного убитого крымца являлось десять новых. И подобно лавине, которая летом срывается с ледников Ошхамахо, навалилась дикая орда на кабардинцев, и дрогнули они, пришли в замешательство, начали отступать, пока не обратились в бегство. И было бегство позорным, никогда не виданным в Кабарде, и не перенес этого позора весь израненный, истекающий кровью чекуок Батырбек, и в отчаянии заколол себя кинжалом.
А хан, не останавливаясь, шел дальше и на другой день разбил кабардинцев около горы Бештау, потом продвинулся к реке Баксан и сжег многие из кабардинских аулов.
Кабардинские князья изъявили ему покорность и обязались платить ежегодно дань хлебным зерном, медом, рогатым скотом, лошадьми и людьми – по одному человеку с каждого аула.
Возвращался хан домой той же дорогой, которой пришел в аул, и отдохнуть остановился близ бештаугорских аулов.
И здесь князья изъявили ему свою покорность и дань назначенную обязались давать вовремя.
И кабардинский народ с рабскою покорностью принял на себя ханское иго.
Только в одном ауле молодой холоп Машуко не хотел давать дани.
– Пока я держу кинжал в руке, до тех пор Каплан-Гирей ни одного зернышка просяного не получит от меня, одной шерстинки со своей коровы я не дам ему.
Соседи смеялись над ним.
– Какой ты богатырь! – говорили они. – Хан и спрашивать тебя не станет, а возьмет из твоего имущества то, что ему понравится. Захочет – и будешь ты раб его, а сестру твою, красавицу Элисхан, возьмет себе в наложницы.
– Только мертвым мной хан может распорядиться! – отвечал Машуко. – Про сестру я ничего не скажу: она взрослая, есть у нее свой ум, и вольна она поступать, как хочет.
И продолжал потом:
– Это князья и уздени, как собаки, виляют перед ним хвостом. Но я не таков!
Один холоп, желая выслужиться перед своим князем, пошел донести ему на Машуко.
Узнал об этом Машуко, поспешно побежал в свою саклю, взял винтовку и сказал Элисхан:
– Пойдем, сестра, в горы: там ты свободна будешь.
Жаль стало Элисхан покинуть саклю, расстаться с коровой, козой, страшилась она голодной жизни в горах.
– Нет, Машуко, не пойду я с тобой, – сказала она. – Подобно волку придется жить в лесу…
– Но лучше быть голодным волком на свободе, чем сытой собакой на цепи, – заметил Машуко.
Покачала головой Элисхан.
– Нет, – сказала она решительно, – не пойду с тобой.
Рассердился Машуко.
– Хеть махо к’дыкя! (Буквально: «В собачий день родилась!») – выругался он и вышел на двор.
Была в ауле девушка, Хариса-холопка, которую тайно любил Машуко, и от этой любви ребенок – мальчик родился.
Забежал к ней Машуко, шепнул ей, чтобы она через три дня вечером пришла к подошве горы, из которой бьют ключи горячей воды и, подражая вою волка, дала бы знать о себе.
И побежал Машуко из аула, а по дороге к нему присоединилось еще десять молодых вооруженных холопов.
– Мы идем, Машуко, с тобой, – сказали они. – Лучше теперь умереть свободными, чем рабом дожить до старости.
Князь, извещенный холопом-доносчиком, прискакал со своими узденями к сакле Машуко и не застал его.
– Но все же он не уйдет от нас, – сказал он.
На другой день хан, собираясь в Крым, устроил пир в своем шатре, украшенном дорогими коврами.
Были приглашены князья и уздени, но в пиршестве они не приняли участие, а почтительно стояли в стороне, некоторые же из них прислуживали хану и его пашам, и Каплан-Гирей, сидя на шелковых подушках, в красном шелковом халате, весело посмеивался, глядя, как они гнут перед ним свои спины.
До вечера продолжался пир, и упился хан, пьяный повалился на подушки и уснул.
Настала ночь. Костры погасли в ханском стане, погасли огни в аулах.
Спало войско хана, дремали часовые. И вдруг среди ночи произошло смятение в ханском стане: послышались лязг оружия, крики, вопли, стоны.
Проснувшиеся крымцы не могли понять причины этого смятения, пока не зажгли костров, и тогда увидели, что многие из их воинов были убиты и ранены.
Паша пробовал разбудить хана, но тот только мычал и не просыпался.
Утром же, узнав о ночном происшествии, он сильно разгневался.
– Это – работа кабардинских князей и узденей! – воскликнул он.
Но прибывшие в стан князья и уздени, снова изъявляя свою покорность хану, объяснили, что ночное нападение на крымцев было сделано беглецом Машуко и его товарищами.
Нахмурился хан.
– Сегодня же приведите этого Машуко ко мне! – крикнул он.
Один же уздень заискивающе заметил хану, что в ауле осталась сестра Машуко, очень красивая девушка.
– Красивая? – удивился хан. – Приведите-ка, взгляну я на нее…
И когда Элисхан предстала перед ним, он поразился ее красотой, приказал одеть ее в дорогие и красивые одежды, взял ее себе в наложницы.
– А Машуко вы все-таки разыщите, – сказал он князьям, – иначе много дыма будет в ваших аулах.
Засмеялся и увел Элисхан в шатер.
Собрали князья и уздени народ, отправились на гору искать беглецов, долго искали и только к вечеру наткнулись на них.
Произошла стычка. Беглецы защищались отчаянно, но все же шесть человек из них были убиты, а четыре израненными – взяты в плен, только Машуко успел скрыться.
Приведены были пленники в стан ханский, но Каплан-Гирей не вышел из шатра и через пашу приказал отрубить им головы.
И приказание его было исполнено немедленно.
Наутро хан покинул Кабарду и увез с собой сестру Машуко.
Три дня прошло.
Вечером Хариса стояла у подошвы горы, на опушке леса, и громко выла по-волчьи. И испугалась она, вскрикнула, когда увидела Машуко около себя – так бесшумно и незаметно спустился он с горы.
– Живы ли мои товарищи? – спросил он, не отвечая на обычное приветствие Харисы.
– Тела их – без голов валяются в грязи, – ответила она.
Упал Машуко на землю, застонал.
– О горе, горе мне! – воскликнул он. – Мои товарищи, мои славные друзья!
И в голосе его послышались слезы.
Потом вскочил он на ноги и, потрясая кулаком по направлению аулов, гневно воскликнул:
– Отомщу я вам, князья и уздени, за кровь товарищей!
А Хариса, помолчав, промолвила:
– Сестру твою хан в наложницы взял…
– Взял? – спросил Машуко. – И сестра не умертвила себя?
– Зачем? – удивилась Хариса. – Она теперь носит шелковую одежду, живет в роскоши и рабыни прислуживают ей.
– О, проклятая тварь! – вскричал Машуко. – Не сестра она мне. Быть наложницей врагу народа!.. Подлая женщина, хуже собаки она!
Хариса молчала и думала о том, как счастлива теперь Элисхан.
Молчал и Машуко, думал о смерти своих товарищей, и гневом закипало его сердце.


