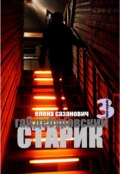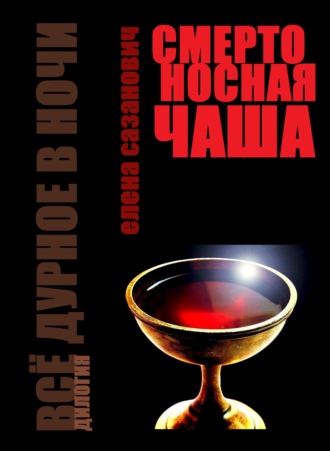
Елена Сазанович
Смертоносная чаша
– Вано, – прохрипел мой друг. И пристально посмотрел на Стаса.
Тот уже взял себя в руки и попытался улыбнуться.
– Вано? Любопытное имечко. Вы так не похожи на грузина.
– Думаю, тебе лучше молчать, на кого я похож! – рявкнул Вано. И демонстративно повернулся спиной к Стасу.
Мне их разговор пришелся не по вкусу. Но, в принципе, мне не было дела до их личных проблем. И я тут же, чтобы разрядить обстановку, принялся подробно рассказывать Вано о предстоящем спектакле.
– Да перестань ты, Ник, – пытался отказаться от этой затеи мой товарищ. – Какой из меня артист! Да зрители сразу же разбегутся, увидев мою рожу на сцене. Пусть этот красавчик играет сколько душе угодно. – Он кивнул на Стаса. – Тем более ему не впервой изображать из себя негодяя.
– Стас как раз будет играть благородного героя, – вставила свое слово Василиса. И незаметно в знак благодарности пожала руку Вано. Ей очень понравилось, что тот обозвал ее бывшего дружка негодяем.
Честно говоря, мне не очень-то нравилось, что в нашем творческом коллективе царят недоброжелательность и разлад. Я так работать не привык. А поскольку я был среди них единственным профессиональным артистом, то решил взять бразды правления в свои руки.
– Все! – строго отчеканил я. – Мне лично абсолютно все равно, за что вы все друг друга ненавидите или любите. Я знаю одно: к завтрашнему вечеру мы должны быть готовы выступать. Или вы хотите опозориться? И подвести наш великолепный клуб, в котором всегда царят покой и согласие?
– Угу, – не выдержал Вано, с недоверием воспринимая мою серьезность, – как в могиле.
– В отличие от могилы, – поправил я остроумного Вано, – здесь ты прекрасно можешь пожрать и выпить. Бесплатно. Должны же мы как-то отплатить за безвозмездную заботу о нас.
– Один уже отплатил, – усмехнулся Стас, глядя туманным взглядом в свой туманный пустой бокал.
– Ты о чем? – не понял я.
– Вы разве не слышали? Сегодня покончил жизнь самоубийством Матвей Староверов. Выбросился из окна. Впрочем, чему вы удивляетесь? Разве не за этим сюда идут? И разве вы лично не за этим здесь? – почти равнодушно добавил он, но по его грустному взгляду я все же понял, что ему далеко не все равно.
Конечно, Стас прав. И все же, глядя на смерть, изучая ее досконально, готовясь к ней, мы еще по-настоящему с ней не столкнулись. Я отлично помнил Староверова. Он когда-то был известным и очень даже неплохим диктором телевидения. Интеллигентный, не крикливый, талантливый. Я не знаю, по какой причине его уволили. Скорее – он не устраивал своей порядочностью. Скромностью. Тактичностью и правдой. Сегодня в почете было другое. Хихиканье, фамильярность и просто хамство. Плюс – обязательный легкий акцент. Так, видимо, кому-то представлялись раскованность и свобода по-американски. Что вполне компенсировало недостаток ума и вкуса. М-да, при господстве таких типажей на экране немудрено, что люди выбрасываются из окон.
В зале раньше обычного раздались удары колокола. Мы, вскочив с мест, задули свечи. И «КОСА» погрузилась в темноту, в которой я обостренней обычного почувствовал бессмысленность происходящего. Мои мрачные мысли перебил вспыхнувший прожектор. Он осветил огромный портрет ведущего, держащего в руке микрофон. Его глаза лукаво нам улыбались. Воцарилось гробовое молчание, после которого на сцену вышел Толмачевский, чтобы сообщить нам о гибели Староверова. Но его речь не была грустной. Напротив. Он ободряющим тоном уверял нас, что Матвей обрел истинное счастье. И гармонию, которую так долго искал, но не мог найти на этой земле. Его мучения завершились. И только теперь действительно началась его новая жизнь. Прийти к ней безболезненно и достойно помог не иначе, как наш клуб.
В конце своей речи управляющий призвал выпить по бокалу вина в память об усопшем и посмотреть спектакль, посвященный ему.
После выпитого (и не одного) бокала вина и после спектакля, изображавшего последние дни жизни покойного, всем стало гораздо легче. Нам была показана трагедия этого человека, не сумевшего приспособиться к сегодняшней жизни, пустой, лживой, хамской. И смерть, дохнувшая на нас горечью, вновь приобрела иной смысл. И мы вновь ее не боялись. И подсознательно чувствовали, что каждый из нас может бесстрашно последовать примеру Староверова. Но для этого каждому было отпущено свое, определенное время.
– Ну, что ж, – мрачно выдавил я, – поскольку мы еще живы, то обязаны сделать наш спектакль. И ночку придется нам сегодня не поспать. Ну-с. Начнем со сценариуса.
А сценариус, мягко говоря, не отличался ни совершенством, ни оригинальностью замысла. Нам пришлось много поработать над ним. Мы уединились в маленькой гримерной, где нам никто не мог помешать. Надо сказать, что, несмотря на разногласия личного характера, царящие в нашем квартете, в творческом плане у нас царило полное взаимопонимание. Забыв на время про все свои симпатии и антипатии, мы с удовольствием и поразительной энергией схватились за работу. К тому же каждый хотел отвлечься от мрачных мыслей в связи со смертью Матвея.
Я же вообще почувствовал себя на коне. Меня вновь увлекла моя профессия, от которой я когда-то устал и которую по собственной глупости бросил. Сегодня я вновь ощутил пьянящий вкус творчества. И с благодарностью бросился в бессонную ночь творческих поисков, с радостью наблюдая за одухотворенными лицами своих товарищей по искусству.
Сценарий был действительно слабенький. Но к утру мы придали ему нужную форму и приличное содержание. Мы успели даже несколько раз порепетировать, успели найти в клубе профессионалов, чтобы в спектакле нашем были на уровне музыкальность, пластика и художественность.
Когда ранним утром мы возвращались домой, дождь, ливший всю ночь, прекратился и в воздухе царила пьянящая осенняя свежесть. Солнце еще не взошло. Но уже ощущалось его появление. Мир просыпался, оживал, дышал на нас сентябрьской влагой и мокрой листвой. Мы не обращали внимания ни на лужи под ногами, ни на почерневшие ветки деревьев. Нам дышалось легко. Нас сегодня объединила работа, о которой мы все забыли в погоне за какими-то смутными желаниями, купаясь в море надуманных мук и страданий. И каждый из нас наверняка подумывал, что жизнь не так уж дурна. Особенно если в ней есть достойная цель, а рядом – верные товарищи. Я же вообще чувствовал себя полным идиотом. Мне давно следовало сниматься в кино или играть на сцене, а не торчать в этом подозрительном клубе с пошлым названием «КОСА».
– И все-таки мы сочинили спектакль о красоте смерти, хотя каждый думал о красоте жизни, – словно отвечая моим мыслям, сказала Вася.
– Мы просто играли по тем правилам, которые нам предложили изначально, – возразил я.
– А я думаю, не в правилах дело, – скептически заметил Вано. – Я поймал себя на мысли, что мне нравится изображать смерть красивой. Думаю, я в этом не одинок.
Мы промолчали. Мы были согласны. И только Стас, вглядываясь в утреннюю бесконечность, задумчиво ответил:
– Не знаю… Но я решил, что никогда добровольно не уйду из жизни. Никогда.
– Значит, в «КОСА» действительно творят чудеса. Помогают не только безболезненно покинуть наш мир, но и безболезненно вновь вернуться туда.
Стас остановился и, подняв с земли опавший лист, машинально стал крутить его.
– Не знаю, – вновь задумчиво протянул он. – «И осень нас заставит уйти из жизни, как потемневшую листву…» Я не помню, чьи это стихи. Но их часто цитировала моя мама. Она не любила осень. И осенью умерла. Как же я могу поверить в красоту смерти? Или в красоту сентября?
Мы молчали. Мы не знали, что сказать. Для беспредельной грусти трудно подыскать верные слова.
– Мне направо, – перебил наше молчание Стас. – Завтра я с вами увижусь в последний раз. У меня нет больше желания посещать этот клуб. И все же, – он обратился непосредственно ко мне, – где я все-таки мог вас видеть? Или ваш портрет…
– Это так важно? – Я пожал плечами.
– Может быть, может быть. Мы никогда не знаем, что важно, а что не очень, – неопределенно сказал он. И машинально протянул мне почерневший осенний лист. И я так же машинально его принял.
Стас, вяло кивнув нам на прощание, пошел прочь медленной походкой, так ни на кого и не глядя. Втянув голову в плечи. И прикуривая дрожащей рукой сигарету. И вновь неприятное предчувствие кольнуло меня. Мне стало искренне жаль этого растерянного, поникшего парня. И я долго смотрел вслед его стройной фигуре, вяло сжимая в своей ладони осенний листок.
– Жаль, что он покинет нас, так и не застрелившись, – по-черному сострила Вася. – А я уже представляла цветы на его свежей могиле.
На сей раз мне пришелся не по вкусу ее цинизм. И я хмуро промолчал.
– Ну что, до завтра, – зевнул во всю пасть Вано, позволив вдоволь налюбоваться его беззубым ртом. – Вернее, уже до вечера.
– И не забудьте явиться пораньше, – сухо сказал я. – Мы еще должны хотя бы разок все прогнать.
Мы разошлись в разные стороны. Не знаю почему, но настроение у меня испортилось. То ли ночь без сна, то ли унылое лицо Стаса не давали покоя, то ли дурные предчувствия преследовали меня. И я, так и не выбросив осеннего листка – подарка Стаса, поставил его в глиняную вазу. А строчка неизвестного стихотворения назойливо крутилась в моей голове:
«И осень нас заставит уйти из жизни, как потемневшую листву…»
Но уже вечером, отлично выспавшись, я пребывал в прекрасном настроении, списав утренние дурные предчувствия на очарование унылой поры. Я возбужденно бегал по квартире, распевая во всю глотку, начищая костюм, ботинки и тщательно бреясь. Да, давненько со мной такого не случалось. И Оксана, внимательно наблюдая за мной, была приятно удивлена.
– Ты, Ник, словно перед премьерой.
– Ты почти угадала, милая, если жизнь заново можно назвать премьерой.
– Вот как? – рассмеялась она. – А в этой жизни заново для меня будет местечко?
Кошечка скребнула по сердцу. Оксану, если честно, в своей новой жизни я представлял смутно. Вот Вася… И я постарался перевести разговор на другое:
– Оксана, ты не видела мой галстук? Помнишь, ты мне его подарила лет пять назад? Мода, безусловно, меняется, бежит вперед. Но я за ней не гонюсь!
– А я вообще предпочитаю старые вещи. – В светлых глазах Оксаны мелькнул азартный огонек.
– М-да? Что-то не замечал за тобой любви к антиквариату.
– Не к антиквариату, милый. А к старым привычкам, привязанностям, – уже из другой комнаты крикнула Оксана и, вернувшись, бросила мой галстук на журнальный столик.
Я уже собирался его взять, как мой взгляд упал на раскрытую вечернюю газету, на первой полосе которой красовалась веснушчатая физиономия Вовки Лядова. Вначале я, грешным делом, подумал, что это некролог. Но глубоко ошибся. Лядов умирать не собирался. Напротив. Он получил какую-то премию за какой-то фильм под актуальным названием «Дурачье». Название говорило само за себя. Но, поскольку на сегодняшний день от нашего кинематографа нечего было ждать, Лядов удачно вписался в кинопроцесс. Не знаю, кого он так гениально сыграл – дурака или умника (я склонялся к первому). Но премию он получил за высокохудожественное отображение действительности в роли главного героя. И Лядова в этой проникновенной статье называли уже не просто Владимиром. А почтительно – Вольдемаром. В общем, для полного счастья ему оставалось откорректировать фамилию. Не знаю почему, но статья меня взбесила. Слабо верилось в культурное возрождение. Если на экране появляются фильмы с такими названиями. И такими физиономиями.
Я со злостью отшвырнул газету – она упала на пол.
– О Боже, – выдохнула Оксана, поднимая ее, – я совсем забыла про эту чушь. Впрочем, Ники, я не думала, что тебя это так расстроит.
– Я печалюсь о нашей культуре, дорогая, – попытался отшутиться я.
– Да, – серьезно ответила Оксана. И нацепила на нос свои кругленькие очки, к помощи которых она все чаще стала прибегать в последнее время. И мельком взглянула на улыбающуюся самодовольную рожу Лядова. – И есть о чем печалиться, Ники, – как бы извиняясь, добавила она. – Я была на премьере этого идиотского фильма, Вова пригласил меня. Трудно было отказаться.
– Зачем ты извиняешься? – Я пожал плечами. – Ты вольна бывать где угодно. И с кем угодно. Тем более я не такой уж частый гость дома.
– Не частый, но желанный, – улыбнулась Оксана. – Я искренне жалею, что пошла туда.
– Неужели все так плохо?
– Все как всегда. Фильмик дешевенький. Как всегда – беспросветный мрак. Герои какие-то идиоты. К тому же слабенькие трюки, голые смазливые красотки, и в центре – Лядов с жалкими философскими потугами. Терпеть не могу этого типа. И как ты с ним только дружил?
– По молодости, милая. – Я нежно обнял Оксану за плечи. – Тогда все казались умными и образованными. Где это теперь? Но я очень счастлив, что в этом мире остались еще такие, как ты.
– И как ты, Ник. – Она прижалась ко мне.
И я вдруг подумал, что обладаю бесценным сокровищем. Особенно теперь, когда наша жизнь опутана лицемерием и жалким снобизмом. Чего еще мне, дураку, надо? И тут же я вспомнил о Васе. Еще мне нужна любовь…
Собрались мы в «КОСА» этим вечером, как договаривались, пораньше. Пока еще не заявился столичный бомонд. Вася по случаю премьеры надела длинное, до пят, крепдешиновое платьице в мелкий цветочек. А Вано сменил нейлоновую рубаху в красных розах на похожую, но с изображением цветущих васильков.
– Ты как весна, Вано, – не выдержал я. – Цветешь и пахнешь. – И тут же галантно поклонился Васе. – А вы, девушка, ну, просто нет слов…
– Жаль, – обиженно надула подкрашенные губки Василиса, – я обожаю красивые слова.
– Красивые слова мы побережем для сцены. Но почему нет Стаса? – нахмурился я. – Неужели юноша все еще пребывает в меланхолическом сне?
– Скорее, наш Пьеро пребывает у девицы, обожающей меланхолические сны, – съязвила Вася.
– Васенька, – погрозил я ей пальцем, – после спектакля разрешаю тебе подраться со Стасом. Или убить его. Но в данный момент прошу не трогать нашего самого красивого артиста.
Но особо долго я Стаса не защищал, поскольку спустя еще полчаса он так и не удосужился появиться – и я уже откровенно крыл его всеми существующими нецензурными словами.
– Ну что ж, – заключил я, когда поток ругательных слов иссяк, – придется репетировать без него. Но это ему дорого обойдется.
Мы кое-как провели генеральную репетицию, а затем принялись за художественное оформление спектакля. Много декораций нам не понадобилось. В театральных костюмах мы также не нуждались, отвергнув принятую в «КОСА» пышность оформления: как я уже упоминал, мы решили сделать акцент на содержании. Эмоциональности. Душевной экспрессии.
В работе я подзабыл о существовании Стаса. Но, когда клуб стал заполняться посетителями, я заволновался и стал поглядывать на часы.
Стас появился, когда я утратил всякую надежду на это. Он прибежал запыхавшись. Его взмокшие волосы торчали в разные стороны. Плащ был забрызган грязью, и ботинки оставляли грязные следы. Да, таким я не ожидал увидеть этого красавчика и чистюлю и уже было собрался раскрыть рот, чтобы высказать все, что я о нем думаю, но он опередил меня:
– Ник, отойдем на минутку. – И, не дожидаясь ответа, потащил меня в темный угол за сценой. – Ник, – захлебываясь, начал он, – Ник, я вспомнил, где тебя видел! Вернее, твое изображение…
– И по этому случаю ты срываешь спектакль?! – заорал я. – А может, ты в меня тайно влюблен?! И жертвуешь всем, лишь бы узнать обо мне побольше?!
– Успокойся, Ник. Все не так. В общем, не о тебе я хотел узнать. Все не так. Я давно подозревал, Ник! Я узнал такое! Это ужасно, Ник! Весь этот клуб… Это…
Его отрывистые вопли были перебиты ударами колокола, донесшимися из зала. Вот-вот должен был открыться занавес, и я с трудом утащил Стаса подальше от сцены.
– Все расскажешь потом, Стас. Нет времени. Ты, надеюсь, не забыл роль?
– Все в порядке, Ник. Но дай слово, что выслушаешь меня после спектакля.
– Честное благородное, – второпях бросил я, отчаянно пытаясь привести взлохмаченного приятеля в порядок.
Занавес открывался. В зале уже были погашены свечи. Вспыхнули огни рампы. Наше представление начиналось, и я молил Бога, чтобы оно прошло удачно. Этого требовала моя профессиональная честь.
На сцене мы разыгрывали незатейливую историю, воспетую еще Шекспиром. Это была история Ромео и Джульетты. Простенький сюжет о пылкой, самоотверженной любви молодых людей, перед которыми стал выбор: жизнь или смерть. Жизнь в не любви, в не радости, в не свободе. Жизнь поодиночке. И смерть, которая несет с собой и любовь, и радость, и свободу (во всяком случае, они верят в это), ибо они умирают вместе.
Мы намеренно представляли совершенно реалистически. Сюжет, по нашим планам, был максимально приближен к жизни, к земле, к людям. Мы не хотели запутывать историю, усложнять надуманной философией и нагружать тайным смыслом. Здесь правда должна быть просто правдой. А ложь – ложью. Любовь – только любовью. А ненависть – ненавистью.
Не знаю, аплодировал ли бы нам Шекспир, но театральные критики, несомненно, съели бы нас, обвинив в примитивизме и бездарности. Но нам на них было глубоко плевать, поскольку им не предоставится возможности поиздеваться над нашим спектаклем: он появится и умрет в стенах этого клуба. А жить будет всего один день.
На театральных подмостках вовсю бушевали страсти, в центре которых были Вася (Джульетта) и Стас (Ромео). Они великолепно подходили на эти роли. Почти дети. Столько наивности! Столько веры в добро и счастье! Я внимательно следил за их игрой, и у меня невольно щемило сердце: они словно бы играли в свое прошлое, словно пытались искренне воссоздать картину их ушедшей любви. И диалоги придумывались почти экспромтом. А возможно, они их и не придумывали, просто повторяли прошлое. И Васины щечки горели румянцем, и я мог поклясться чем угодно, что в эти мгновения она начисто забыла про меня. Стас, который разлюбил Васю окончательно, вдруг сегодня, в этот вечер, на этой сцене, вспомнил абсолютно все. Он вновь любил.
Они шли по уже испытанному кругу, мысленно задавая себе вопрос: почему все случилось именно так, если им было так хорошо вместе? Их глаза горели огнем и страстью. И это была отнюдь не игра, они снова любили. И зажигали этой любовью зрителей. И заставляли верить, что на свете существует любовь. Мне становилось больно от этого, хотя я прекрасно понимал, что прошлое невозможно вычеркнуть из памяти. Рано или поздно оно настигает каждого. Я не представлял, как они будут смотреть друг другу в глаза после спектакля, ведь рано или поздно рассеется иллюзия театральной рампы. Рано или поздно они вновь будут стоять на земле и думать: «Боже, что это было?» Мне было немного жаль их, потому что я отлично усвоил, что прошлое можно лишь воспроизвести – вернуть его невозможно…
Нам с Вано в этой пьесе были отведены роли злодеев. Я приложил все умение, чтобы сыграть профессионально. Холодный взгляд черных глаз. Презрительная ухмылка. Равнодушные жесты. Вано же абсолютно ничего не смыслил в актерской игре, и у меня возникло беспокойство, что он провалит спектакль. Но я ошибся. Я понял, что отсутствие лицедейства можно прекрасно заменить внешними данными. Вано и впрямь никого не изображал, но беззубый рот, лысый череп и татуировка на волосатой руке говорили сами за себя.
Ставку мы сделали на эпилог, где были обязаны – по законам «КОСА» – изобразить смерть красивой. Но мы не собирались показывать саму красавицу смерть. Мы решили и героям, и зрителям не предоставлять права выбора. Мы просто загоняли их в угол, говоря о том, что и в самых безвыходных ситуациях есть выход. Он единственный, но он есть. И это не что иное, как смерть. Она может уничтожить тело. Но убить душу, убить любовь – никогда. Для наших героев в жизни главным была любовь и смерть – по сравнению с ней – выглядела всего лишь эпизодом. Впрочем, как и сама жизнь. Ни жизни. Ни смерти. Только любовь. Да здравствует любовь!
Мы подошли к эпилогу. Вася-Джульетта в крепдешиновом платьице, усыпанном мелким цветочком, в самом центре сцены. В глазах – столько боли и столько любви! Любви к Стасу-Ромео, стоящему напротив нее. Он бледен. Небесно-голубой взгляд, уже нездешний. Он пронизан тоской и неизбежностью. И еще верой. В победу любви. На заднем плане мы с Вано – два злодея, сумевшие загнать в тупик героев, но не сумевшие загнать в тупик любовь.
Вася тоненькими дрожащими руками протягивает чашечку с ядом.
– Выпей, любимый, – еле слышно произносит она, – выпей. Только так мы победим зло. Только так обретем покой и счастье.
Он берет из ее рук чашечку. И пьет медленными глотками. Его губы шепчут в ответ:
– Я не прощаюсь с тобой, любимая. Я не прощаюсь…
И он медленно опускается на пол. Вдруг я читаю ужас в его глазах. Черт побери! Стас испортил всю сцену! Он перечеркнул весь спектакль! Идиот! Не ужас, а счастье! Счастье должно быть написано на его мертвенно-бледном лице! И я за спиной Вано отчаянно жестикулирую, объясняю Стасу, что еще не поздно переиграть. Но этот упрямец неумолим. Он тяжело дышит. И что-то шепчет пересохшими губами. Но я не слышу его слов. Он морщится, словно от невыносимой боли. Стонет и издает громкий вздох. И на его бледном лице по-прежнему написан ужас.
Мои кулаки сжимаются от негодования. Да уж! Красавица смерть с лицом, полным ужаса. Этот эпизод не входил в планы. И вряд ли может понравиться владельцам «КОСА». Наверняка этот холеный красавчик сделал все назло мне. Он вновь полюбил Васю. И решил отомстить за мою любовь к ней.
А Вася! Черт побери! Она с ним в сговоре! Почему она не пьет из этой чашечки? И в ее глазах застыл нескрываемый страх!
– Ну же, Васенька, – ласково шепчу я, – пей же! Вася! Ты должна выпить! Слышишь! И упасть замертво рядом со своим любимым Пьеро!
– Выпить… – машинально повторяет она. – Нет! Я не хочу! Не хочу!
В зале послышался шум, выкрики, кто-то даже умудрился свистнуть. Но мне уже плевать на зрителей. Я хватаю Васю за руку. И с перекошенным от злости лицом шепчу:
– Ты с ума сошла, негодница! Ты хочешь провалить наш спектакль! Ты… Ты…
Она медленно поворачивается ко мне. Ее глаза полны ужаса. Губы дрожат. Нет, это не похоже на игру.
– Ник, он мертв, Ник… О Боже, он мертв…
Я несколько секунд стою неподвижно. С абсолютно тупым выражением на лице. Я пытаюсь осмыслить сказанное. И мне это плохо удается.
– Ник, ты слышишь меня, Ник… Он мертв…
Мертв… Занавес закрывается. Ромео мертв. Разве он не должен был умереть? Ведь так было написано в моей пьесе. Впрочем, про это написал еще кто-то задолго до меня. Кажется, Шекспир. Он мертв…
Наш спектакль закончен, и его продолжение уже идет вне сцены, совсем не напоминая игру. «Скорая помощь», милиция. Толпа завсегдатаев клуба, подавленных происшедшим.
Стаса тащили на носилках два санитара. С тупым равнодушием на лицах. По-моему, им этот ажиотаж даже нравился. Появилась возможность себя показать. Впрочем, это особенности их профессии. Равнодушие, привычка и мимолетная радость оказаться в центре внимания.
Уголки простыни, которой был прикрыт Стас, все время загибались. И я невольно смотрел и смотрел на это неподвижное бескровное лицо, на котором по-прежнему – теперь уже навечно – застыл ужас. Теперь он не напоминал лорда Байрона. Он как никогда был похож на несчастного Пьеро, отыгравшего свою роль до конца и погибшего в финале. Мне до слез было жаль этого мальчишку. И я испытывал вину перед ним, как, наверно, каждый, кто хоть раз сталкивался с ним. Я вспомнил, что при первой встрече заметил на его лице печать неизбежного конца. Но разве я мог своими смутными предчувствиями предотвратить эту смерть? Впрочем… Боже, каким же я был идиотом! Стас перед спектаклем пытался что-то сказать, объяснить что-то важное. Он доверял мне! А я не оправдал этого доверия. Может быть, кто-то не захотел, чтобы я это услышал?! Хотя… Скорее всего, это просто стечение обстоятельств.
И вдруг этот клуб показался мне до боли комичным. С его свечками над каждым столиком. С его зеленью, усыпанной розовыми цветочками. Как в гробу! Клуб, где на все лады расписывались прелести смерти. Что ж, вот она! Любуйтесь ею! Пойте ей дифирамбы! Вы так ее желали! Вот она! Перед вами! В лице этого молоденького парня, который уже никогда… Никогда не проснется утром. Не выпьет чашечку кофе. Не пройдет по дороге, усыпанной осенней листвой. Не улыбнется небу. И не полюбит девушку с пепельными волосами. Никогда… «И осень нас заставит уйти из жизни, как потемневшую листву…» Никогда… Слово «никогда» меня пугает. Если бы у человека было несколько жизней, тогда стоило поиграть в игры «КОСА». Но слово «никогда» начисто перечеркивает эту игру. И, пожалуй, в эти часы никто из столичной богемы не пожелал бы оказаться на месте Стаса. Никто не верил в красоту смерти. И в счастье после нее. Все было гораздо проще. И гораздо банальнее. Мертвое тело. Слово «никогда». И обостренное понимание того, что скоро каждый окажется под землей. Совершенно один. Постепенно боль поутихнет. Лицо забудется. А жизнь будет продолжаться. Я был совершенно уверен, что в эти часы все по достоинству оценили жизнь, как оценил и я. Пусть в ней тысячи несчастий, ложь, предательство. Разочарования. Все-таки это лучше испытать на земле. Чем…
Я сжал ладонями виски. Я был настолько потрясен смертью, что у меня даже не возникло вопроса, кто же все-таки убил Стаса. Меня постепенно вывели из оцепенения. И моя тоскливая философия была разом перечеркнута четкими вопросами следователя, на которые я никак не хотел отвечать. Но мое желание никого не интересовало. Жизнь продолжается. Человек убит. И главным в этой жизни на сегодняшний день было найти убийцу, а не размышлять о справедливости и несправедливости нашего мира.
– Я понимаю, – сказал следователь, изо всех сил стараясь сделать понимающее лицо. Но у него не получалось. – Я понимаю, вы устали. Эта кошмарная ночь. И все же… Мы обязаны задать вам несколько вопросов. Сегодня. Для более подробного допроса вы будете вызваны завтра.
– Я вас слушаю, – нахмурился я.
Мне этот человек почему-то сразу не внушил доверия. А может быть, я слишком болезненно реагировал после шока. И все же… Я каким угодно мог представить следователя. Низким. Высоким. Умным. Глупым. Сильным. Слабым. Но только не таким. Все в нем было безукоризненно: и отутюженный костюмчик – ни одной пылинки, и блестящие, начищенные туфли – ни одной грязинки (это в такую-то погодку!), и пухлые щечки с румянцем, и ухоженные руки. Мне слабо верилось, что человек с такой безупречной внешностью способен копаться в грязи, не боясь при этом испачкаться. Нет уж! Он не позволит, чтобы его нежные ручки, чистый костюм и безупречная совесть были забрызганы грязью. А чистюлям я никогда не доверял. И поэтому, насторожившись, смотрел прямо в лицо Юрию Петровичу (так он представился, хотя был на вид младше меня). Он, впрочем, не отводил глаз. Видимо, думал, что сможет уловить фальшь в моих глазах. Как бы не так! Он, конечно, не брал в расчет, что я артист и, если захочу что-либо скрыть, он в жизни об этом не догадается.
– Да уж, – тяжело вздохнул Юрий Петрович, словно угадывая мои мысли, – труднее всего иметь дело с людьми необычной профессии. Обыкновенного человека всегда легче расшифровать.
– Убийцы, как правило, необыкновенны, – усмехнулся я. —
Так что, пожалуй, дело не в профессии.
Мы сразу не понравились друг другу. Но я не был девицей, поэтому мне его любовь была не нужна.
Следователь, словно вопреки моему мнению, премило улыбнулся и провел ладонью по своим редким, чем-то смазанным волосам.
– Скажите, где вы находились во время гибели вашего… – Он запнулся, не зная, какую степень родства присвоить Стасу по отношению ко мне. Или он сделал это умышленно, давая мне возможность самому на это ответить.
– Коллеги, – продолжил я за него.
– Вы давно с ним работаете? – небрежно спросил Юрий Петрович.
– Давно, если сутки можно назвать вечностью. Правда, для некоторых они и обратились именно вечностью.
– И в течение суток он стал вашим коллегой?
– Не в течение суток, а в течение одной репетиции. Этого вполне достаточно.
– Хм. Мы отвлеклись.
– Да, – тут же согласился я. И подробно описал место, где находился во время заключительной сцены. Хотя, думаю, за меня это уже давно сделали мои доброжелатели.
Не знаю, то ли моя природная подозрительность, то ли осторожность заставили сосредоточиться в несколько минут, но я, отбросив все рассуждения о смерти, решил тщательно обдумывать каждое слово и ни под каким предлогом не открывать карт. И хотя сам я толком не знал, есть ли они у меня, но сообразил, что любое неосторожное слово может навредить и мне, и моим друзьям, так как участвовали в спектакле только мы, четверо, и один из нас был уже мертв.
– Скажите, ваш друг имел склонность к самоубийству? – продолжал допрос Юрий Петрович, намеренно подчеркнув интонацией слово «друг», тем самым демонстрируя, что для него друг и коллега – одно и то же.
– К самоубийству? – Я сделал вид, что думаю. И даже для полной убедительности наморщил лоб. Впрочем, версия самоубийства для нас и для руководства «КОСА» была наиболее благоприятной. Для меня же правда была важнее. – В этом клубе все склонны наложить на себя руки. Только не спрашивайте почему. Я вам все равно не отвечу. Думаю, руководство «КОСА» даст вам надлежащее объяснение.
– Допустим. Но я и так наслышан об этом заведении и теперь хочу узнать ваше личное мнение: был ли Стас Борщевский склонен к самоубийству?
Конечно, я мог этому Юрию Петровичу запросто выложить, что Стас преследовал иную цель: искал кого-то и что-то важное хотел именно мне сообщить перед смертью. Но это сообщение я решил отложить до более благоприятных времен.
– Как бы вам объяснить, – продолжал я старательно морщить лоб, – пришел он сюда в поисках смерти, но незадолго до гибели вдруг сообщил нам, что не собирается накладывать на себя руки. И вообще после спектакля собирается сматываться из «КОСА».
– Значит, что-то изменило его решение. Или кто-то…
Я пожал плечами.
– Вообще-то, если честно, то все здесь… Ну, в общем, люди неуравновешенные. Знаете ли, неустойчивая психика. И, так я думаю, каждый здесь восемь раз на день меняет свое решение. Вчера он решил убить себя, потому что кто-то его обидел одним лишь словом. А сегодня он заметил, как под его окном расцвел куст сирени, и тут же решил жить. А вечером он вдруг понял, насколько бессмыслен мир, потому что хлынул дождь и страшный ветер поломал этот куст. И он вновь решил умереть. А завтра…
– Достаточно, – резко перебил мои литературные измышления следователь. Явно моя скромная персона стала его раздражать. – Довольно логично – списать эти порывы на особенности творческой натуры. В мире может ничего не произойти, а ты вдруг решил умереть.