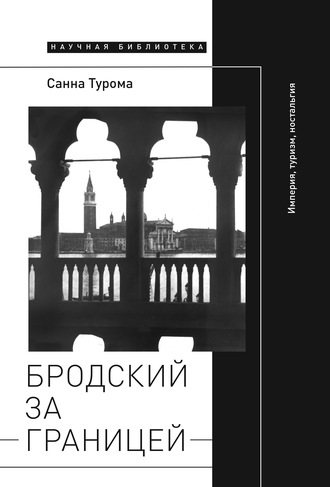
Санна Турома
Бродский за границей: Империя, туризм, ностальгия
Модернистское представление о литературе и изгнании, определившее и критическое восприятие текстов Бродского, и его собственное понимание литературы и авторской субъективности, тесно связано с литературной иерархией XX века54. В этой литературной иерархии изгнание занимает верхнюю позицию, а путешественник – отличный кандидат на попадание в канон, тогда как позиция туриста – за его пределами. Голоса «беженцев любого типа» также еще не слышны. Антитуристический дискурс, опирающийся на литературную практику романтиков, важен для этой иерархии. Один из первых примеров негативного отношения к «туристам» в европейской литературе – стихотворение Уильяма Вордсворта «Братья» (1799), касающееся популярности Озерного края у английских путешественников: «Туристам этим, Господи прости, / Должно быть, хорошо живется: бродят / Без дела день-деньской – и горя мало, / Как будто и земли под ними нет, / А только воздух, и они порхают, / Как мотыльки, все лето»55. Жорж Санд в «Письмах путешественника» (1834) обращает едкую иронию на английских «пневматических туристов»56. Князь Вяземский отражает известную непопулярность английских туристов в Италии, когда пишет в венецианском дневнике о том, что из картины в одной из церквей Тревизо была вырезана голова: «неизвестно кем и как, но подозревают в том Англичанина туриста»57. Примерно через полвека Николай Гумилев в дневниковой заметке о своем пребывании в Константинополе в 1913 году проводит различие между подлинным путешествием, вызванным стремлением к приключениям, и поведением «туриста», связанным с коммерцией и осмотром достопримечательностей: «Я не турист. К чему мне после Айя-Софии гудящий базар с его шелковыми и бисерными искушениями, кокетливые пери, даже несравненные кипарисы кладбища Сулемания. Я еду в Африку»58. Самоопределение через отрицание – «я не турист» – подчеркивает момент в развитии модернизма, который пишущая об англоязычной литературе Хелен Карр относит к первому десятилетию XX века, когда в текстах путешествий стало общим местом «обозначать дистанцию между автором как путешественником и буржуазными стадами туристов»59.
Негативные коннотации туризма в модернистском дискурсе приобрели особое значение в России, где само понятие туризма определялось по-другому, чем на Западе, и приобрело специфическое советское значение. В конце 20-х туризм становится советским проектом, а к 60-м – массовым движением. В сталинскую эпоху путешествия призваны «создать правильное отношение к социалистическому отечеству, вкладывая в исторические места и экзотические природные объекты советское значение», отмечает Энн Горсач, описывая патриотическую составляющую советского туризма и его вклад в конструирование советской идентичности60. «По тропинкам по гористым, / По болотам и кустам / Пробираются туристы / К неизведанным местам», – поется в «Песне туристов» В.И. Лебедева-Кумача61. В послесталинский период полуофициальная практика путешествий была общей для советской интеллигенции. Миллионы советских граждан отправлялись в поездки и на экскурсии, организованные туристическими бюро. Слово турист было зарезервировано именно для них, оно работало как модель для активного и спортивного советского гражданина, и эту модель распространяла популярная культура бардовских песен, так описанная в молодежном журнале «Юность»: «Это были молодые, ясные, свежие голоса. И пели не артисты, а студенты, инженеры, учителя, которые в свободное время были туристами, аквалангистами, путешественниками»62.
Хотя социально-экономическая структура и идеологическая составляющая советского туризма отличались от западного послевоенного туризма, они имели и нечто общее: туризм затрагивал огромные массы людей. На Западе это привело к тому, что в начале 70-х он стал объектом антропологических исследований. Дин Макканел в своей ставшей классической книге «Турист. Новая теория праздного класса» намечает семиотический подход к феномену туризма и описывает исторический нарратив туризма, который во многих случаях пересекается с историей литературных путешествий:
Открытие себя через сложный и иногда трудный поиск Абсолютного Другого – основная тема нашей цивилизации, тема, на которой держится огромный пласт литературы: Одиссей, Эней, диаспора, Чосер, Христофор Колумб, «Путь паломника», Гулливер, Жюль Верн, западная этнография, «Великий марш» Мао <…> Тема эта растет и развивается, достигая наибольшего расцвета в современности. То, что начиналось как деятельность, которая пристала герою (Александр Македонский), постепенно становится целью социально организованной группы (крестоносцы), признаком статуса целого общественного класса (гранд-туры английских джентльменов) и, наконец, перерастает в универсальный опыт (туристы)63.
Семиотический подход Макканела отчасти является откликом на вызванный бурным развитием туризма после Второй мировой войны антитуристический дискурс, в котором само слово «турист» приобретает негативные коннотации, подобные тем, которые оно имело в литературе путешествий XIX века. Одна из характеристик этого дискурса – это презрительное отношение к туристу по сравнению с путешественником. Книга Дэниела Бурстина «Имидж, или Что произошло с американской мечтой» (1961), фундаментальное исследование американского послевоенного общества, включает главу о туризме, названную «От путешественника до туриста: потерянный век путешествий»64. Туристическое поведение, пишет Бурстин, характеризуется восхищением неподлинным и поверхностным, так называемыми «псевдособытиями». После Бурстина западный туризм регулярно ассоциируется с неаутентичностью, как, например, в американском травелоге Умберто Эко «Путешествия в гиперреальности», в котором встреча с «подделками» и «имитациями» начинается, как только вы «выходите из Музея современного искусства или художественной галереи и попадаете в другую вселенную, заповедник усредненной семьи, туристов, политиков»65. В такого рода критике туризма часто проскальзывает ностальгия по веку «настоящих» путешествий, которые туризм сделал невозможными.
На такой ностальгии (подпитанной травелогом Ивлина Во 1946 года «Когда ездить было не грех») строится популярное исследование англо-американских литературных путешествий в период между двумя войнами, написанное американским литературным критиком Полом Фасселом, который лаконично формулирует свою основную мысль: «Я полагаю, что путешествия теперь невозможны и все, что нам осталось, – это туризм»66. Под «теперь» имеется в виду конец семидесятых годов, а «мы» – американцы (и, возможно, западноевропейцы), близкие автору по образованию и социальному статусу. Для Фассела «золотым веком путешествий» были 1920-е и 1930-е, когда британские и американские писатели, такие как Грэм Грин, Олдос Хаксли, Джордж Оруэлл, Джон Дос Пассос, Эрнест Хемингуэй и оденовское поколение поэтов, путешествовали много и плодотворно, имея в виду написанные ими травелоги. Джонатан Каллер в своей статье 1981 года «Семиотика туризма» критикует Бурстина и Фассела и следует семиотическому подходу Макканела. Каллер атакует антитуристический дискурс, заявляя, что «повторяющееся противопоставление туриста и путешественника подразумевает, что это не столько исторические категории, сколько термины, неотъемлемые от туризма. Исторические объяснения оправдывают путешественников за то, что они всегда делают: чувствуют превосходство по отношению к другим путешественникам»67. Несмотря на подобные критические ноты, семиотический подход к туризму не освободился от распространенной иерархии, в которой турист всегда ниже путешественника. Не свободен он и от наследия модернистского дискурса, где эта дихотомия выступает как мощная идеологическая метафора. Бродский относится к тем авторам, чьи литературные путешествия это доказывают.
Подход к его произведениям не только в контексте изгнания, но и в контексте туризма нарушает названную выше иерархию и может даже показаться неприемлемым. Исследуя модернистский и постмодернистский дискурсы, Карен Каплан делает замечание, которое объясняет причины такой реакции:
Из определений изгнания и туризма в обыденном смысле следует, что эти понятия находятся на противоположных полюсах современного опыта перемещений: изгнание подразумевает насилие; туризм – свободу выбора. Изгнание предполагает отлучение человека от изначального окружения; туризм расширяет понятие «окружение» до глобального. Изгнание играет особую роль в западных нарративах о политических формациях и культурной самоидентификации – и может быть ретроспективно прослежено именно в этой роли вплоть до эпохи эллинизма. Туризм же возвещает наступление постмодернизма – это продукт расцвета культуры потребления, досуга, технологических инноваций. С точки зрения культуры изгнание относится к модернистским формациям высокого искусства, а туризм занимает диаметрально противоположную позицию как знак всего коммерческого и поверхностного68.
С точки зрения Каплан, туризм и индустрия путешествий являются характерным продуктом постмодернистского потребительского общества, которое описывал в своем эссе Фредрик Джеймисон69. Коллективизм и конформизм масс, ассоциирующиеся с туризмом, бросают вызов модернистскому пониманию индивидуальности и уникальности субъекта, как пишет Каплан:
Европейский и американский модернизм ставит во главу угла оригинальность, одиночество, остранение, отчуждение и эстетизированный отказ от места проживания во имя места действия – художник «в изгнании» никогда не бывает «дома», всегда испытывает экзистенциальное одиночество, усугубленное тем, что чувство перемещения проникает во все его замыслы и озарения70.
Рассмотренное на фоне модернистской ситуации явление туризма, как видно из работ Каплан и Макканела, знаменует собой «конец индивидуализма», о котором писал Джеймисон71.
В силу долгой истории репрессивных режимов и ограничений, связанных с путешествиями, понятия изгнания и ссылки играют чрезвычайно важную роль в русских нарративах культурной идентичности72. Ключевая фигура здесь – Пушкин. Сравнение Бродского и Пушкина, возникающее в критике, вписывает Бродского в эти нарративы и устанавливает его место в русском литературном каноне – Бродский и сам провоцирует это своей поэтикой интертекстуальности73. Подобный подход, примененный к травелогам Бродского, ведет к тому, что эти тексты оказываются отрезаны от времени и места создания, целиком определяясь через метафизический дискурс изгнания. Но произведения Бродского в жанре путешествия, написанные после 1972 года, с их откликом на современность, одинаково связаны и с изгнанием, и с туризмом. Для того чтобы анализировать отклик Бродского на западную практику путешествий и показать, как положение туриста отражено в его представлении о собственной идентичности как путешественника, необходимо читать его тексты с учетом того понимания путешествий, изгнания и авторской субъективности, которое отражено еще в доотъездных стихах.
Путешествия по Советскому Союзу: экспедиции, аутсайдерство и поза изгнанника
В послесталинскую эпоху поздних 1950-х и 1960-х, когда Бродский входил в литературу, территория советской империи предоставляла мультиэтническое и мультикультурное пространство для советских туристов и путешественников. Надежды на либерализацию путешествий подпитывали массовую и популярную культуру самыми разными способами, а возможность встретиться с западными путешественниками в Россию расширяла культурные представления советской интеллигенции. Путешествия были популярной темой советского кино и литературы, а также бардовской песни в «эпоху движения», как ее назвали Петр Вайль и Александр Генис в своих воспоминаниях74.
Геологические экспедиции, популярные среди советской молодежи, были формой путешествия, хотя и предусматривавшей некоторые бюрократические формальности, но относительно свободной от ограничений туристических баз и домов отдыха. Один из популярных фильмов эпохи оттепели, «Неотправленное письмо» Михаила Калатозова (1959), показывавший группу молодых советских геологов в сибирской тундре и их трагическую борьбу с природой, был объявлен консервативными критиками «чуждым советскому гуманизму»75. Дикие путешественники отправлялись в дорогу без путевки санатория или турбазы, а художественная интеллигенция предпочитала творческие командировки, позволявшие с разрешения и при поддержке государства отправиться в места, недоступные большинству советских граждан76. Анатолий Найман описывает эту форму путешествий в воспоминаниях о своей поездке в 1967 году на Черное море по заданию московского журнала «Пионер», во время которой к нему на некоторое время присоединился Бродский, который, согласно Найману, был командирован ленинградским журналом «Костер»:
У всех газет и журналов были специальные фонды, которые использовались для командировок писателей в различные части Советского Союза для подготовки очерков. Как правило, редакторы указывали, что именно они хотят получить. Но иногда, как в моем случае, выбор темы оставался за автором. Многие мои друзья и коллеги пользовались этой, хоть и ограниченной, возможностью ездить по стране вдоль и поперек. По возвращении нужно было отчитаться о расходах и положить на стол редактора готовый текст. Это, конечно, не значило, что его обязательно опубликуют77.
Этот тип литературного путешествия предлагал советской интеллигенции дискурсивное пространство для описания Советского Союза и его реалий в границах официально приемлемого78. Опыт, приобретенный в геологических экспедициях, творческих командировках и самостоятельных поездках на юг и Балтийское побережье, отражен в стихах Бродского шестидесятых годов79. Карта поездок и путешествий, которую можно составить по упоминаниям в стихах 60-х, представляет собой воображаемое пространство, охватывающее большую часть советской территории, в центре которого – Ленинград, а на периферии – Якутск, Казахстан, Эстония, Москва, Карельский перешеек, Иркутск, Таруса, Балтийск (Пиллау), Калининград (Кенигсберг), Псков и, наконец, Норенская, место ссылки поэта в Архангельской области80. Некоторые стихотворения отсылают к месту, где находится автор, только посредством подписи. «Памяти Е.А. Баратынского» и «Витезслав Незвал» датированы «19 июня 1961, Якутск» и «29 июня 1961, Якутия» соответственно – как будто для того, чтобы подчеркнуть отрыв автора от обычного окружения, отличие от европейского и русского литературного пространства, к которому эти стихи, независимо от путешествия, отсылают. В то же время «Уезжай, уезжай, уезжай…», стихотворение, подписанное той же датой и местом, что и текст, посвященный чешскому писателю Витезславу Незвалу, обращается к теме путешествия и помещает лирического героя в Казахстан. В таких ранних стихах, как «Песенка о Феде Добровольском» и «Воспоминания», герой находится в экспедиции на Белом море81. В недатированной «Книге» экспедиционный опыт служит толчком к ироническому сравнению жизни с книгой со счастливым концом. Бросающийся в глаза оптимизм первой строки, «Путешественник, наконец, обретает ночлег», разоблачается в следующей: «Честняга-блондин расправляется с подлецом». Это задает тон для сардонических заключений о жизненных событиях в оставшейся части стихотворения:
Экономика стабилизируется,
социолог отбрасывает сомнения.
У элегантных баров
блестят скромные машины.
Войны окончены. Подрастает поколение.
КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ
НА МУЖЧИНУ.
Блондины излагают разницу
между добром и злом.
Все деревья – в полдень – укрывают крестьянина
тенью.
Все самолеты благополучно
возвращаются на аэродром.
Все капитаны
отчетливо видят землю.
Глупцы умнеют. Лгуны перестают врать.
У подлеца, естественно, ничего не вышло. (СИБ1, 1, 36)82
Помимо реального опыта путешествий, который Бродский приобрел в геологических экспедициях и командировках, репрезентация путешествий в его поэзии связана также с послесталинскими советскими культурными практиками, равно как и с чтением русской и западной классической литературы. Стихотворение 1959 года «Пилигримы» предвосхищает неконвенциональный с советской точки зрения набор отсылок, который будет свойственен поэзии Бродского: эпиграф к поэме – это цитата из Шекспира, две строчки из 27-го сонета: «Мои мечты и чувства в сотый раз / идут к тебе дорогой пилигримов»83. Между тем сам текст отражает чувство движения, эмблематичное для советской культуры этого периода84:
Мимо ристалищ, капищ,
мимо храмов и баров,
мимо шикарных кладбищ,
мимо больших базаров,
мира и горя мимо,
мимо Мекки и Рима,
синим солнцем палимы,
идут по земле пилигримы.
(СИБ1, 1, 24)
Этот ранний панегирик движению и представление об энтузиазме «пилигримов» тем не менее имеют двойное значение. Пилигримы движутся, и «глаза их полны заката», а «сердца их полны рассвета», тогда как пейзаж, который остается позади, создает впечатление, противоречащее очевидному оптимизму их стремления вперед. «За ними поют пустыни», «хрипло кричат им птицы» о том, «что мир останется прежним», «лживым», «вечным», «может быть, постижимым, / но все-таки бесконечным», что ведет к заключительной идее стихотворения:
…И, значит, остались только
иллюзия и дорога.
И быть над землей закатам,
и быть над землей рассветам.
Удобрить ее солдатам.
Одобрить ее поэтам.
(СИБ1, 1, 24)
Эта ранняя поэтическая репрезентация реальности, советской реальности как иллюзии вырастает в более отчетливо выраженное чувство лирического героя, связанное с потерей иллюзии и перемещением, в таких стихах начала 60-х, как «Люби проездом родину друзей…», «Я как Улисс» и «Инструкция опечаленным». Начальная и третья строфы первого стихотворения даны в элегическом тоне скуки от путешествия и монотонности советской провинции:
Люби проездом родину друзей.
На станциях батоны покупая,
о прожитом бездумно пожалей,
к вагонному окошку прилипая.
Отходят поезда от городов,
приходит моментальное забвенье,
десятилетья искренних трудов,
но вечного, увы, неоткровенья.
(СИБ2, 1, 70)
Отношение героя к родине дано через необычное сочетание слов «родина друзей». Это отделяет его от патриотического дискурса, который предполагает «любовь к родине». В четвертой строфе утомление путешествием вырастает в понимание того, что путешествие не открывает новое, но скрывает разочарование жизнью:
Да что там жизнь! Под перестук колес
взбредет на ум печальная догадка,
что новый недоверчивый вопрос
когда-нибудь их вызовет обратно.
(СИБ2, 1, 70)
В заключительной строфе этот скепсис превращается, однако, во что-то новое, что герой целиком принимает как жизненную позицию, и желание путешествовать воспринимается как постоянное нахождение героя в ситуации перемещения:
Так, поезжай. Куда? Куда-нибудь,
скажи себе: с несчастьями дружу я.
Гляди в окно и о себе забудь.
Жалей проездом родину чужую.
(СИБ1, 1, 70)
«Родина» больше не принадлежит «друзьям» – она «чужая». Таким образом герой отделяет себя от советской провинции. Романтическое «куда?» и элегическое чувство перемещения обнаруживают его отчуждение от родной земли. Схожие чувства мы видим в стихотворении «Я как Улисс»:
Зима, зима, я еду по зиме,
куда-нибудь по видимой отчизне,
гони меня, ненастье, по земле,
хотя бы вспять, гони меня по жизни.
Ну вот Москва и утренний уют
в арбатских переулках парусинных,
и чужаки по-прежнему снуют
в январских освещенных магазинах.
(СИБ1, 1, 136)
Это одно из первых стихотворений Бродского о Москве, и наблюдения за московской уличной жизнью, более космополитичной, чем в родном Ленинграде, скоро превращаются в жалобы лирического героя на чувство собственной неприкаянности:
И желтизна разрозненных монет,
и цвет лица криптоновый все чаще,
гони меня, как новый Ганимед
хлебну зимой изгнаннической чаши
и не пойму, откуда и куда
я двигаюсь, как много я теряю
во времени, в дороге повторяя:
ох, Боже мой, какая ерунда.
(СИБ1, 1, 136)
Образ чаши отсылает к мифу о Ганимеде, троянском юноше, знаменитом своей необычайной красотой, похищенном Зевсом из Фригии. На Олимпе он стал виночерпием богов. В отличие, скажем, от Овидия, который в «Метаморфозах» обращается к гомоэротическим коннотациям мифа, в стихотворении Бродского фокус смещен на насильственное перемещение Ганимеда на Олимп. В шестой строфе поэт отсылает к романтическому канону английской поэзии:
Мелькай, мелькай по сторонам, народ,
я двигаюсь, и, кажется отрадно,
что, как Улисс, гоню себя вперед,
но двигаюсь по-прежнему обратно.
(СИБ2, 1, 136)
«Улисс», скорее всего, отсылает к одноименному стихотворению Альфреда Теннисона85. Стихотворение Бродского как бы отвечает на следующие строки из поэтического монолога Теннисона, в котором Одиссей высказывает свое решение покинуть Итаку:
Мне отдых от скитаний, нет, не отдых,
Я жизнь мою хочу испить до дна.
Я наслаждался, я страдал – безмерно,
Всегда, – и с теми, кем я был любим,
И сам с собой, один. На берегу ли,
Или когда дождливые Гиады
Сквозь дымный ток ветров терзали море, —
Стал именем я славным, потому что,
Всегда с голодным сердцем путь держа,
Я знал и видел многое, – разведал
Людские города, правленья, нравы,
И разность стран, и самого себя
Среди племен, являвших мне почтенье,
Я радость боя пил средь равных мне,
На издававших звон равнинах Трои.
Я часть всего, что повстречал в пути.
Но пережитый опыт – только арка,
Через нее непройденное светит,
И край того нетронутого мира,
Чем дальше путь держу, тем дальше тает.
Как тупо-тускло медлить, знать конец,
В закале ржаветь, не сверкать в свершенье86.
Позднеромантическая тяга Теннисона к путешествиям почти дословно отражена в образах движения Бродского. «Я жизнь мою хочу испить до дна» и «равнины Трои»87 английского поэта отражаются в троянце Ганимеде, которого изображает Бродский: «хлебну зимой изгнаннической чаши». Стремление Теннисона двигаться вперед, «Как тупо-тускло медлить, знать конец», трансформировано в стихотворении Бродского в ощущение бесцельности странствий, которое показывает разочарование в путешествиях лирического героя, который понимает, что движется «по-прежнему обратно».
В «Инструкции опечаленным» (1962) столичный герой оказывается в сибирской провинции с ее затхлой водой и заплесневелыми закусками в кафе аэропорта, осознавая свое «бездонное одиночество» и мечтая о побеге:
Я ждал автобус в городе Иркутске,
пил воду, замурованную в кране,
глотал позеленевшие закуски
в ночи в аэродромном ресторане.
Я пробуждался от авиагрома
и танцевал под гул радиовальса,
потом катил я по аэродрому
и от земли печально отрывался.
И вот летел над облаком атласным,
себя, как прежде, чувствуя бездомным,
твердил, вися над бездною прекрасной:
все дело в одиночестве бездонном.
(СИБ1, 1, 172)
В четырех финальных строках стихотворения опыт геологических экспедиций и чувство географии позволяют лирическому герою сформулировать главный парадокс, согласно которому бескрайние советские просторы становятся тупиком для тех, кто в них обитает:
Не следует настаивать на жизни
страдальческой из горького упрямства.
Чужбина так же сродственна отчизне,
как тупику соседствует пространство.
(СИБ1, 1, 172)
Во всех этих стихотворениях мечта о путешествиях и свободе, чувство географии и романтика советских путешествий, как определяют Вайль и Генис эту советскую версию байроновского романтизма, соседствуют с советским постутопическим разочарованием и модернистским чувством перемещения жителей городов. В них отражено экзистенциальное аутсайдерство – слово, которое Бродский использует в письме к Ирине Томашевской, написанном из ссылки, чтобы описать свое положение в советском обществе к моменту ареста: «Я живал по-разному и поэтому всем происшедшим не очень обескуражен. О причинах я и вовсе не думаю. По-моему, никто ни в чем не виноват. Видимо, слишком велико было мое аутсайдерство»88. В стихах начала 60-х это чувство перемещения и элегического разочарования, пробивающееся через размышления о путешествиях вне рамок советского туризма, явно противоречит официальному литературному мейнстриму. Чувство городского одиночества и бездомности в ранней поэзии Бродского находит соответствие в произведениях англо-американских писателей, таких как Эрнест Хемингуэй и Джон Дос Пассос, которые были популярны у поколения Бродского и которые представили в ранних текстах героя-мужчину, чье стремление к путешествиям было продиктовано ощущением экзистенциального сдвига и стремлением к экзотике, сопровождающимся сексуальным влечением и/или скукой89. Т.С. Элиот, стихи которого Бродский открыл для себя в начале 60-х, очевидно, также был источником этого модернистского ощущения. «Путешествия и перемещения» были повторяющимся мотивом в поэзии Элиота, как пишет Мэри Карр, и легко видеть, как элиотовские «грязные столицы, раздробленность, безвкусица настоящего, второсортная культура, обломки угасающей цивилизации, ностальгия по прежнему прекрасному миру», отраженные в «Бесплодной земле», влияют как на раннее, так и на зрелое поэтическое воображение Бродского90.
Стихотворение 1962 года «От окраины к центру» – это не травелог, тем не менее оно показательно для раннего поэтического самоопределения Бродского, смоделированного на основе типичного для мужской модернистской субъективности ощущения экзистенциального сдвига. В стихотворении Ленинград описывается как параллель изображению Москвы в таких фильмах, как «Мне двадцать лет» и «Я шагаю по Москве», с артикуляцией зрелости героя, как интеллектуальной, так и эротической, и характерным для оттепели восхищением западной культурой91. Бродский описывает район Малой Охты, полуиндустриальное захолустье фабрик и советских блочных домов в современном поэту Ленинграде. Первая строка, «Вот я вновь посетил», отсылает к пушкинскому «…Вновь я посетил…», элегии, отражающей впечатления поэта от посещения в 1835 году Михайловского, его родового поместья и места его ссылки. Пушкин жаловался тогда в письмах родным и друзьям на неспособность писать, и этот упадок творческих сил или его предчувствие – основа элегического настроения в стихотворении92. Лирический герой Пушкина размышляет о своем прошлом с позиции уходящего старого поэта, а в стихотворении Бродского отправной точкой лирического героя становятся воспоминания о первой любви, подростковых надеждах и ожиданиях. Он вступает в новый период жизни с уверенностью и самоощущением молодого поэта:
Вот я вновь пробежал Малой Охтой сквозь
тысячу арок.
Предо мною река
распласталась под каменно-угольным дымом,
за спиною трамвай
прогремел на мосту невредимом,
и кирпичных оград
просветлела внезапно угрюмость.
Добрый день, вот мы встретились, бедная юность.
Джаз предместий приветствует нас,
слышишь трубы предместий,
золотой диксиленд
в черных кепках прекрасный, прелестный,
не душа и не плоть —
чья-то тень над родным патефоном,
словно платье твое вдруг подброшено вверх саксофоном.
(СиП, 1, 120–121)93
Реконструируя лирический сюжет стихотворения с опорой на одно из англоязычных эссе Бродского, можно заключить, что двадцатидвухлетний герой вспоминает время, когда ему было пятнадцать или шестнадцать и он работал или проводил время на Малой Охте, где у него была подруга, чье платье упомянуто в тексте94. Однако «От окраины к центру» не только передает ощущение взросления героя, но и провозглашает его художественный индивидуализм и творческое преображение, которое на символическом уровне изображено как пересечение моста. Стихотворение провозглашает новую поэтическую позицию: «Поздравляю себя / с этой ранней находкой, с тобою, / поздравляю себя / с удивительно горькой судьбою»95. Раннее открытие окраин и индивидуализм, связанный с этим открытием, уводили Бродского от советского дискурса коллективного оптимизма: «То, куда мы спешим, / этот ад или райское место, / или попросту мрак, / темнота, это все неизвестно, / дорогая страна, / постоянный предмет воспеванья» (СиП, 1, 123). Отказ от патриотических чувств обнажает ощущение отчуждения: «Слава Богу, что я на земле без отчизны остался» (СиП, 1, 124).
Необходимость в омоложении канонического образа русского лирического героя подчеркнута выбором пушкинского подтекста. Сельское окружение стихотворения Пушкина заменено на индустриальный пейзаж советского предместья. Дикий «холм лесистый» заменен на «полуостров заводов, / парадиз мастерских и аркадию фабрик», где лирического героя встречают не пушкинские «три сосны», но три фонаря: «Неужели не я, / освещенный тремя фонарями <…> Неужели не я? Что-то здесь навсегда изменилось» (СиП, 1, 122–123). Открытие Бродским окраинного Ленинграда вторит символистскому восхищению окраинным Петербургом, но вместо декадентского кабака у заставы Бродский видит целый район. Перемещающиеся скитальцы-визионеры русского модернизма – «Петербургские строфы» Мандельштама и «Заблудившийся трамвай» Гумилева первыми приходят на ум – становятся моделью для лирического героя Бродского. В то же время этот герой – «не жилец», «не мертвец», «а какой-то посредник», который «совершенно один», – также напоминает городских героев экзистенциально ориентированной литературы западного модернизма:
Слава Богу, чужой.
Никого я здесь не обвиняю.
Ничего не узнать.
Я иду, тороплюсь, обгоняю.
Как легко мне теперь,
оттого, что ни с кем не расстался.
Слава Богу, что я на земле без отчизны остался.
(СиП, 1, 124)
Городское аутсайдерство создается с помощью образов джазовой музыки и моста – это Большеохтинский мост, соединяющий Смольнинскую сторону города с районом Малой Охты. Построенный в начале XX века, этот мост – единственный в Петербурге с двойными арочными фермами, рассчитанный на движение и автомобилей, и трамваев, – напоминает некоторые модернистские железные мосты, характерные для Северной Америки. Мост и «джазовые» фабричные трубы – а джазовое настроение передано и через ритм стихотворения, который имитирует импровизацию, – создают систему отсылок к американскому городскому пейзажу, как он описывался в англоязычном модернистском каноне – романах Дос Пассоса и других писателей, популярных в начале шестидесятых в ленинградском литературном кругу, к которому принадлежал Бродский96.
Конструирование Бродским ленинградской идентичности в 1960-е, отраженное в «От окраины к центру», опирается и на американскую популярную культуру, и на англоязычную литературу модернизма. Оно демонстрирует, как Бродский «воспевает собственную маргинализацию», по словам Дэвида Бетеа, который заметил это в связи с обсуждением влияния Евгения Рейна на раннюю поэзию Бродского; еще точнее будет сказать, что Бродский создает эту маргинализацию97. Конструирование городского аутсайдерства, переплетенное с артикуляцией становящейся взрослой мужской идентичности, напоминает об одном из замечаний Дэвида Макфадьена, отметившего связь между тем, как Бродский восхищается «бравадой некоторых советских поэтов, таких как Борис Слуцкий или романтик Эдуард Багрицкий», и «всеохватывающим интересом к западной экзистенциально обусловленной маскулинности» таких писателей, как «Хемингуэй, Дос Пассос, Джойс, Сэлинджер и другие»98. Валентина Полухина цитирует эти строки, чтобы показать, как «образ человека в изгнании появляется в ранней поэзии Бродского задолго до ссылки», что она относит в духе пушкинского дискурса поэта-пророка к «предсказанию». Но это скорее характеризует не «поэта-пророка», а «модернистское конструирование авторства через отчуждение», пользуясь фразой, которую по другому поводу приводит Карен Каплан. Этот модернистский прием был центральным для ранней самоидентификации Бродского, что видно из упомянутых выше текстов99.


