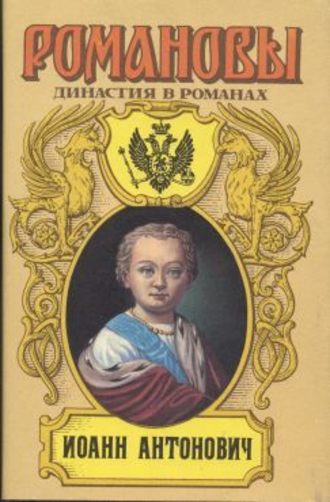
А. Н. Сахаров (редактор)
Иоанн Антонович
– Так как же, граф? Будет ли наконец уважено? – надвинувшись плечом на растерявшегося Воронцова, спросил Ломоносов.
– Ах, батенька! точно Цицерон: quousque tandem?[245] не достаёт ещё Каталины![246] – торопливо, трусцой исчезая в боковой аллее, проговорил великий канцлер. – Коли согласны, экзамент и сверх штата…
– Гунсвоты! Каины! – проворчал взбешённый Ломоносов, шагнув за ним, и чуть впотьмах не задел парик Лестока. – Этакого юноши и не оценить… Рвань поросячья! Куда ни глянешь, одна рвань…
– Quel mot de chien![247] – послышалось под липой.
– Ребеллы и конспираторы! nichts weiter![248] – презрительно заключил, вставая на жиденьких, трясущихся ножках, герцог Бирон. – Бедне России конец… punktum!..[249].
Ломоносов завидел в гущине берёзок китайскую беседку. Здесь теперь было пусто. Курильщики и любители пива отправились смотреть фейерверк. Михайло Васильевич присел к столику. Нервная дрожь его не покидала. Он сидел без мысли, без движения, прислушиваясь к музыке и к одобрительным возгласам толпы, смотревшей на иллюминацию.
«Боже-господи! да что же это? – сказал он себе. – Куда я попал? И нужно было мне лезть сюда?!»
Он вышел из беседки.
Первая часть фейерверка была кончена. Танцы в доме возобновились. Освежённые на воздухе, дамы и мужчины возвращались весёлыми группами в комнаты. Готовились начать бесконечный, так называемый «саксонский», или нарышкинский, гросфатер.
Цветочная галерея была переполнена. С приездом государя для танцев отворили новую, запасную, надушенную куреньями залу. Ломоносов, мимо напудренных, в цветах и жемчуге женских голов, мимо гвардейских мундиров, эполетов и палашей, тоненьких, в длинных перчатках, девичьих рук и низко обнажённых, пышных дамских плеч и спин, боком протиснулся в эту залу. Он ещё раз хотел найти Цейца и, при помощи гетмана, президента Академии, уговорить его оказать хоть какое-либо внимание Мировичу.
Суета и давка, предшествовавшие любимому, всех увлекавшему танцу, отодвинули Михаилу Васильевича к трельяжу из цветов. За перегородкой в оркестре он увидел перед пюпитром, со скрипкой в руке, императора.
Пётр Фёдорович, ладя струны и чему-то громко, беззастенчиво смеясь, разговаривал с баронессой Фитингоф. Под руку с нею, обмахиваясь веером, стояла среднего роста, полная, прозванная городскими остряками «трактирщицей» – Лизавета Воронцова. Лев Александрович Нарышкин, в бархатном, вишнёвого цвета кафтане, с андреевской лентой и крупными брильянтами на пуговицах, суетился, бегал, останавливался, махал платком и опять бегал, устраивая танец, в музыке которого вызвался принять участие государь.
«Они веселятся, – сказал себе Ломоносов, – фаворитка у всех на виду, все ей поклоняются, льстят… А она, Екатерина Алексеевна, умница моя, прячется, книги читает, навещает свежую могилу покойной императрицы… Сегодня я встретил её… В трауре, в плерезах и в печальной, точно монашеской, шапочке, ехала в дрожках молиться в крепость…»
На другом конце залы внимание Ломоносова привлекло бледное, строгое, встревоженное лицо сухощавой стройной девушки.
Опёршись на руки другой, румяной и весёлой, и как бы окаменев, она, с вытянутой шеей и сжатыми губами, не спускала робких, молящих глаз с государя. Перед ней в белом доломане, с барсовым мехом на плече, стоял лихой польской гусар, родич Радзивилла, Собаньский. Улыбаясь, он давно ей что-то говорил, очевидно, приглашая её на гросфатер. Но вот она опомнилась, подала руку, обернулась к подруге. Что-то знакомое встретилось Ломоносову.
«Где я её видел или кто мне о ней говорил? – подумал Михайло Васильевич. – Лица вижу как бы впервые, а между тем… точно где-то её встречал!.. Мушки и ямочки на щеках, серые, как у сфинкса, миндалиной, будто бесстрастные глаза, – и сколько в них вдумчивости, тайны и глубины… Тафтяной палевой роброн, низан перлами, алый бархатный камзольчик и коралловые браслеты – склаваж… Жениховы заграничные презенты… Бавыкина их показывала… Неужели ж это невеста Мировича – Пчёлкина!.. Он её так описывал… Но она была в Шлиссельбурге… Как же и с кем попала сюда? Вот случай… Может сообщить о нём».
Гром музыки прервал мысли Ломоносова.
Вертящийся гросфатер оттеснил его к оркестру. На толстых, упругих, обтянутых в белый шёлк икрах, во главе пёстрой вереницы, плыл, отбивая хитрые батманы и пируэты, Нарышкин.
– Веселимся, – сказал он кому-то близ Ломоносова, качнув головой.
«Веселимся», – подтвердили глаза его и прочих танцующих, лёгким роем пролетавших мимо оркестра.
Не успел Михайло Васильевич посторониться, опомниться, не успел взглянуть в ту сторону, куда упорхнула с гусаром худощавая стройная девушка, как его обдали волны зелёной, с золотыми блёстками, кисеи, и он почувствовал запах горошка и резеды. Перед ним, с головными уборами в виде корзин цветов, улыбаясь, стояли красивая хозяйка дома и толстая, краснолицая Лизавета Романовна Воронцова. Баронесса представила его последней.
– Давно, давно наслышались, – несколько грубым голосом и нараспев обратилась к нему по-русски фаворитка. – Что пишете, Михайло Васильич?
Кровь бросилась в голову Ломоносова. Ему вспомнилась государыня Екатерина Алексеевна, на дрожках, в трауре.
– Ничего не пишу… болен был, – ответил он, с судорогой в горле.
– Быть того не может! Что ж замолкла, никуда не является ваша муза?
– Юбка у ней кургуза, – думая, что говорит про себя, вслух сказал Ломоносов.
Обе дамы с удивлением взглянули ему в лицо.
– Мы читали вашего «Кузнечика», – сказала, желая его задобрить, баронесса. – Voila un vrai genie… delicieux![250]
– Если б я был, сударыня, стрекозой, – произнёс, насупясь, Ломоносов, – я бы давно ускакал отсель, скрылся бы в глушь, в бурьян…
– Ни одной оды, помилуйте! – жеманясь, вертясь и оглядываясь по сторонам, продолжала, тоном капризной властительницы, избалованная фаворитка. – Были ведь какие торжества! Мир с Пруссией, фейерверки, спуски кораблей… Вы же стихотворец, академик…
– На то есть другие, – ещё грубее, с дрожанием губ и рук, пробурчал Ломоносов, – напишет сахарный Штелин, переведёт Барков[251]… его ж, кстати, посадили и в дессиянс-академию, другим назло…
Кто-то выручил дам. Они отошли, пожимая плечами.
– Неуч, грубиян, и всё тут! – с тревогой глядя к оркестру, прошептала Воронцова.
XIV
АУДИЕНЦИЯ
За перегородкой, между музыкантами, уже не было государя. Пётр Фёдорович сыграл первое колено гросфатера и передал скрипку Олсуфьеву. В глубине залы он обратил внимание на девушку, танцевавшую с польским гусаром. Едва они кончили фигуру и стали у двери, туда подошёл государь.
– Ваше величество! – сказала, склонясь перед ним, Пчёлкина. – Уделите минуту несчастной…
Видно было, как Пётр Фёдорович ласково улыбнулся, подал ей руку и, выпрямившись по-военному, вежливо отошёл с ней мерным шагом к стороне.
– Кто говорит с государем? – спросила, в сером шёлковом молдаване, румяная дамочка.
– Птицына… Майора Птицына дочь… – ответила ей другая дама, в зелёном корнете.
– Нет, ма шер, не Птицына; quelle idee![252] та повыше и полнее.
– Так кто же?
– У Оппермана спросить бы… Где барон?
– Ах, посмотри, какая кривляка… Ну беспримерная ужасть! Глазами-то, глазами! А плечами как выделывает…
– Притом и бледна… – прибавила зелёная дамочка, – ах, как бледна!
– Да не бледна же, что ты! – перебила дама в сером. – Желта, ну, как мужичка, желта и черна…
– Ах-ах! Посмотри… И ведь туда ж с декларасьонами!
– Э, полно, радость! Божусь, даже смешно слушать, – с декларасьонами! Этакую-то… Не думала я, ма шер, что ты такой педант…
– Господа, господа! вам начинать! – крикнул с средины залы красный и в поту, выбившись из сил, Нарышкин. – Tournez a gauche, balancez… chaine![253]
И опять свивался и длинным, пёстрым змеем скользил бесконечный, балансирующий, приседающий и, в хитрых батманах и плие, порхающий гросфатер.
Государь и Пчёлкина отошли к плющевому трельяжу. Свободные от танцев гости, по правилам этикета, полукругом, стали поодаль от них.
– В чём же ваша просьба? – спросил император.
– Я невеста, – робко, молящим шёпотом, сказала Пчёлкина, – моего жениха, по вашему повелению, услали в армию…
– Жениха? А куртаги, ха-ха, менуэт в костюме нимфы, помните? – спросил Пётр Фёдорович, смеясь.
– До того ль теперь, простите, умоляю, ваше величество…
– Не терпится? Хотите поскорее его видеть? Но ведь теперь пост – свадьбы нельзя… Э!.. Подождите конец месяца, ну, моих именин… Я обещал тогда, и ваш марьяж, верьте, сыграем. Согласны?
– Слышно о новом походе, ваше величество, – поборов волнение, продолжала Пчёлкина, – вы уедете… Я искала случая ещё об одном лице вас просить; вновь его все забыли. Я хотела пасть к ногам вашего величества… в церкви, в манеже, на площади у дворца… Ах, государь, помогите, окажите вашу милость… вы так добры…
– Не вам быть у чьих-либо ног, – лукаво улыбнувшись, сказал Пётр Фёдорович, – я виноват… Но mille pardons[254], о ком вы ещё просите?
– Вы, государь, обещали к маю приехать, освободить… принца Иоанна; а теперь июнь… Простите, ваше величество, безумной, дерзкой… Я жила у тамошного пристава; его сменили за некое письмо; но не он вам его писал… Казните – я решилась тогда напомнить… и теперь дерзаю…
Поликсена не кончила.
Государь оглянулся. Перед ним, с бледным от негодования и ревности лицом, стояла Воронцова. Багровые пятна проступили на её лбу и на трясущихся от волнения щеках.
– Пару слов, ваше величество, – с хрипом злости сказала она по-французски, – дело весьма серьёзное…
– Ну, ну, что там за спех? Через минуту, и к вашим услугам, – обернулся государь, благосклонно кивнув Пчёлкиной.
Он подал руку Воронцовой. Толпа перед ними расступилась. Они вышли в соседнюю залу.
– С кем вы сейчас говорили? – спросила, подавляя бешенство, Воронцова. – Удостойте ответить, я всё вижу, всё…
– С одной девушкой; она… просила о женихе.
– О женихе? А вы не видите, не слышите, что вокруг вас делается? Спросите моего дядю. Он верный вам слуга; но вы его не слушаете. Смелость врагов зреет не по дням, а по часам… Вы уедете, меня заточат, казнят, – заключила, сквозь слёзы, Воронцова.
– Ай, Романовна, как всё это скучно! – перебил с нетерпением Пётр Фёдорович, обернувшись к двери, за которой оставил Поликсену. – Ты по колени в библии ходишь, всяк то знает… Но вы с дядюшкой да с Гудовичем какие-то мрачные пифии. Ах! ihr alte Russen alle auf einen Schiht![255] Всё-то у вас ковы да конспирации. Вспомнишь невольно о Швеции… вот тихий, цивилизованный народ… Зачем меня сюда привезли?
– Ваша супруга, – продолжала Воронцова, – что-то готовит; говорят, все роли розданы… Если не с дядюшкой, поговорите с Бироном, спросите Миниха, все скажут… К народу она является в монашеской шапочке, угождает духовенству, черни…
– А вот погоди, Романовна, как через пару деньков переедем в Ораниенбаум…
– Но вся молодёжь, слышите ли, вся молодёжь за неё! – топнув ногой, произнесла Романовна. – Спросите – поэты на её стороне, без ума.
– Nicht, als Eifersucht, mein Kind[256]. Ничего, как ревность! – беззаботно усмехнувшись, ответил Пётр Фёдорович. – Даже литературщиков, стихоплётов, вон, вспомнила… Стыдно, фуй! А погоди, перед походом венец устроим, тебя регентшей оставлю. Тогда что скажешь? Ну, будем же философы, как великий Фридрих…
– Это что? – помолчав, сказал государь. – Канонада ракет, финал фейерверка… Пойдём в сад. Но a propos[257] ты вспомнила о писателях… Я тут приметил одного придирщика… Погоди-ка, надо с ним пару слов сказать.
Музыка смолкла. Гросфатер кончился. Все двинулись на балкон.
За прудом, отражаясь в воде, пылала хитро устроенная брильянтовая колоннада. На столбах горели урны; из каждой вылетали звёзды и били разноцветные огненные фонтаны. И над всей этой картиной, в дыму, как на облаках, обозначился щит с буквами П и Е.
– Пётр и Екатерина, – пояснил кто-то по-немецки своей даме, проходя аллеей мимо Ломоносова.
– Пётр… и Елизавета, Лизка Воронцова… – сердито проворчал им вслед по-русски другой голос из темноты. – На какой только вербе оную метреску повесит свет-матушка наша, Екатерина Алексеевна?
«Э-ге-ге! да Бог не без милости! – сказал себе Михайло Васильевич. – Друзья-то нашей разумницы есть и здесь, в самом лагере её супостатов…»
Ломоносов вздохнул. Ему вспомнилось в это мгновенье время за двадцать лет назад, празднества и фейерверки в честь императора Иоанна Антоновича. Тот же блеск, шум и суета, но где всё это? И где теперь сам виновник тех торжеств?
Последний сноп ракет с треском взлетел и рассыпался в воздухе. Призыв к танцам опять раздался в доме.
Распоряжался теперь голубой лихач-гусар, Собаньский.
– A votre place, messieurs et mesdames![258] – щёлкал он шпорами и хлопал в ладоши, поглядывая, куда делась приглашённая им Пчёлкина, и думая о ней: «Сто дьяблов! как хороша, а когти – тигрицы…»
Молодёжь собиралась в пары заключительного режуиссанса. А между тем уже слышался звон столовой посуды. В портретной, цветочной и угольной накрывали столы к ужину.
Все столпились в зале, спеша попасть в танец, в котором старые и молодые наперебой стремились к одному – быть как можно ветренее, забавнее и шаловливей.
Ломоносов протискивался сюда также, ища глазами Пчёлкину, с которой не успел поговорить. Но Поликсена, в тщетном ожидании государя, приметила круглую фигуру и напряжённо уставленный на неё взор как из-под земли выросшего генерала Бехлешова, сослалась на усталость, поручила кому-то из знакомых извиниться перед гусаром и уехала с Птицыной.
«Не судьба! – подумал, опять выбираясь из залы, Ломоносов. – И пакостной цапли Цейца не видно… Делать нечего; примечательная неудача! Так обоим просившим и сообщу…»
– Его величество вас требует на аудиенцию, господин профессор! – сказал, подходя к Михаиле Васильевичу, генерал-адъютант императора Гудович. – Пожалуйте… Государь в саду, с балкона налево. Если дозволите, вас провожу…
Ломоносов преобразился.
«Веди, голубица берлинского спасённого ковчега, веди!» – подумал он, идя за Андреем Васильевичем Гудовичем и смело, гордо глядя на почтительно расступавшихся перед ним немцев и русских.
Та же глубь сада и та же липа на перекрёстке двух аллей. Под липой, где два часа назад с канцлером беседовали Миних, Лесток и Бирон, без шляпы и со стаканом лимонада в руке сидел, обмахиваясь платком, император. Перед ним стояли Унгерн и Корф. Завидя Ломоносова, государь всех отослал к стороне.
– Давно тебя не видел, Михайло Васильич, садись! – сказал Пётр Фёдорович. – Ты меня совсем забыл. Тётку поддерживал, в одах воспевал. Меня, как вижу, меньше любишь. А на тебя все смотрят, ждут, что ты скажешь.
Ломоносов, почтительно стоя, молчал.
«Вспомнил! – пронеслось в его уме. – Господь, видящий сердце грешных, вразуми меня и просвети…»
– Voyons… вот прошёл слух, – с улыбкой продолжал Пётр Фёдорович, – будто ты составил прожектец всех немцев из России выгонять… Правда ли это?
– Сущая клевета и несообразность, – вспыхнув по уши, ответил Ломоносов, – и я такими ребяческими колобродствами не занимаюсь. Бываю я, простите, особливо в час гипохондрии, резок на слова… Но не в том наши пользы и нужды, государь… Хорошие иностранцы – наши учителя; а я, нижайший, сам у них же, на их родине, свет истины спознал. Не о Варфоломеевской ночи против чужеземных наставников думать нам, а о возвышении и произрастании родных наук. Поумнеем, наезжие менторы нам не будут нужны…
«Расположу его к себе, – насмешливо подумал Пётр Фёдорович, – российский Малерб и Пиндар[259]. Вот он стоит передо мной. А по-моему, просто ворчун и выдохшийся с годами бумагомаратель и пересудчик…»
– Слушай, Михайло Васильич, – сказал государь, – я, как все, как и дед мой, великий Пётр, имею много неприятелей… Мне предсказывают разные беды, затруднения. Те советуют одно, эти другое. Не знаешь, кому и верить. Слушай… Проси у меня чего хочешь, всё сделаю… только подумай получше и дай мне совет. У нас нет публичных ораторов, как в Англии, нет смелых энциклопедистов, как во Франции. Мне хочется, ну, пришёл каприз, выслушать тебя. А ведь ты, слушай, и надо то признать, первый гений, слава моего трона. Итак, слушаю, Михайло Васильич… Primo – проси: secundo[260] – советуй.
Что-то едкое, жгучее подступило к горлу Ломоносова. Он хотел говорить и не мог.
«Денег сейчас попросит», – пробежало в весело настроенных мыслях Петра Фёдоровича.
– Ни энциклопедистов, ни верхних и нижних парламентов у нас нет, то правда! – сумрачно ответил Ломоносов. – Есть зато у тебя, государь, песнопевец, газет гремящий!.. Газет гремящий против злых, припадочных людей, против врагов и завистников родины… Лично за себя просьб не имею… В роды родов перейдёт как твоё имя, государь, так и твоего песнопевца. И никто не скажет, чтоб былой рыбак, а ныне известный всему свету, природный русский учёный и поэт, Михайло Ломоносов, чтоб он продавал свои оды за подачки от рук его государей.
– Да я и не говорю! что ты? помилуй!..
– Пел твою тётку, пелося, – продолжал Ломоносов, – и тебя, обозрев твоих начинаний черты, встретил радостно… Теперь молчу…
– Совет, совет! – нетерпеливо застучав рукой по столу, сказал Пётр Фёдорович.
– Совет? изволь, государь, только не прогневайся. Ты мягкий душой, прямой и добрый человек. Все это знают. Но страна, данная тебе, не аллеманское курфюршество… Она – Россия!.. Тебе нужны мудрые, гением одарённые советники.
– Кто они? где? – спросил, двинувшись на скамье, император.
«Уж не себя ли хочет предложить в советники?» – подумал он брезгливо.
– Помирись с твоей супругой, – сказал, почтительно склонившись, Ломоносов, – лучшего советника и друга тебе не надо.
«То же и Фридрих советует, – подумал Пётр Фёдорович, – но в этом, и только в этом, он ошибается, – не знает мадам «La Ressource».
– Нет, нет! – ответил с раздражением государь. – Жена непослушна, упорна, дерзка; скажу откровенно – не уважает лучших и верных моих хранителей, голштинцев. Клерикалы на её стороне; вся гвардейская молодёжь, слышно, в неё влюблена…
– И я, государь, прости, из её жарких поклонников, – произнёс, опять склонясь, Ломоносов.
«Точно сговорились», – с досадой подумал Пётр Фёдорович.
– Ты её обижаешь, теснишь, – продолжал Ломоносов, – а оторванные от недр близких поневоле ищут чужой поддержки и защиты… Таков естества и натуры чин!
– Дальше, дальше! – нетерпеливо перебил император.
– Загладь тяжкую ошибку государыни – твоей тётки, – сказал Ломоносов, – освободи несчастного узника, бывшего императора, Иоанна Антоновича… Двадцать лет вопиют из тюрьмы о его доле… Не приблизишь его к своему трону – отпусти в чужие края…
Пётр Фёдорович сделал опять движение.
– Унгерн и дядя принц Жорж то же говорят, – произнёс он, – да можно ли то, послушай?.. Ну, как его освободить? Ведь он претендент!
– Можно. В том прерогатив и величие твоей власти. Дай ему кончить жизнь человеком… Воспитай его, укрепи здоровье бедного, просвети благами веры и разума… Искупи прошлое… Иначе суд Божий и людской, истории приговор – тебе не простят. Отошли его за границу к родным…
Пётр Фёдорович встал. Сильное волнение его охватило.
Он порывисто оправил на себе шляпу, взялся за портупею, выпрямился, хотел говорить и несколько секунд не находил слов. Шпага дрожала в его руке.
«И та девушка, – подумал он, – и она сейчас о том же просила… Я помню обещания, надо слово сдержать…»
– Спасибо, – сказал император, – часть того, что ты изложил, сущий резон… После узнаешь, я давно, и прежде тебя, думал о том же. В остальном, извини, ошибаешься. Впрочем, будь покоен, отныне я за тебя. Верю тебе и на тебя надеюсь!.. Но ты ничего не просил?.. Voyons… He хочешь о себе, проси за других… Слушаю…
Ломоносов собрался с мыслями и передал ходатайство о Мировиче и Фонвизине. Государь подозвал Унгерна, которому тут же сообщил ордер о своём согласии на обе просьбы.
– Студиозус твой, как видишь, будет принят… А за офицера, – произнёс, улыбаясь, Пётр Фёдорович, – mille pardons, не один просишь… И его невеста, ха-ха, момент назад, меня здесь о том же весьма бомбардировала. Ein Teufels madel! чертовски миленькая, умная девушка…
Не слыша ног под собой и не покидая гордой осанки, Ломоносов прошёл анфиладой комнат, мимо опять подобострастно склонявшихся перед ним голов, от ужина отказался, простился с хозяевами и, найдя шляпу и трость, пешком отправился восвояси, на Мойку. Глаза его были увлажнены, сердце билось горячо. Длинная тень от луны падала с той стороны улицы, где, шепча какие-то слова, умилённый и растроганный, шагал «газет гремящий».
По уходе Ломоносова Воронцов отыскал Миниха и долго под руку с ним прохаживался по отдалённым дорожкам сада. Разговор шёл о том же, об упадке финансов, о колебании всех дел и о фуражном подряде для армии.
– Je conjure, votre Excellence[261], – говорил Воронцов. – Напрягите ваше влияние, чтоб государь оказал мне этот фавор…
– Но что я могу? – спросил Миних. – Was kann ich, mein liebster[262] Михайло Ларионыч?
– Ecoutez, – шептал канцлер, – je vous offre encore une d'etre en moitie avec moi dans ce negoce…[263] мы поделимся – вам половина, мне другая, – прибавил он по-русски. – Только осмотрительней, по одной эхе могут пронюхать и перебьют…
Миних подумал, молча покровительственно сжал под локтем руку канцлера и с важностью вышел с ним из сада.
– Самый опасный – Григорий Орлов, – вполголоса сказал за ужином император Корфу, – надо приставить кого-нибудь в тайности за ним наблюдать..
«Слушаю», – ответил глазами генерал-полицеймейстер.
– Над Дашковой, – продолжал государь, – будет лучший аргус – Романовна, её сестра… Кто ожидал? Сколько притворства! Недаром я не жаловал учёных; во дворце ни одной латинской книжки в моей библиотеке не велел ставить…
Утром император призвал Гудовича, долго с ним совещался, и в тот же день был послан новый секретный гонец в Шлиссельбург.
«В военную службу принца, – рассуждал Пётр Фёдорович. – Я его перевоспитаю, выбью у него дурь из головы, и он бросит бредить…»
В половине июня, поздно вечером, к даче Гудовича, в лесной глуши, на Каменном острове, подъехала с опущенными шторами запылённая извозчичья карета. Из неё вышли озабоченный, пожилой, в синем гарнизонном кафтане, офицер и длинноволосый, бледный, в голштинском плаще, с подплетёнными в косу волосами молодой человек.
Кроме государя, хозяина дачи и ещё двух-трёх сановников, никто не знал о прибытии этих путников. Они заняли пустой флигель в глубине Гудовичева двора и первые дни никуда оттуда не выходили.



