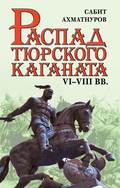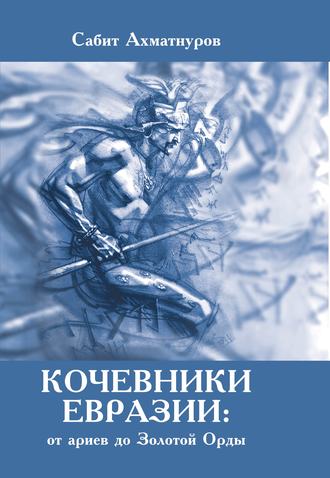
Сабит Ахматнуров
Кочевники Евразии: от ариев до Золотой Орды
В начале XXI в. российско-германская экспедиция в Республике Тыва под руководством Константина Владимировича Чугунова открыла миру бесценные шедевры, некогда принадлежавшие властителям степей. Обнаруженные сооружения в Пий-Хемском районе под названием «Аржаан-2» представляют сложный комплекс с курганом диаметром 80 м. Самой большой неожиданностью стала находка основного «царского» захоронения, которое осталось нетронутым благодаря расположению. В захоронении обнаружены останки мужчины и женщины с фрагментами одежды, что позволило воссоздать костюмы и многие другие атрибуты царских похорон; золотые изделия поражают мастерством исполнения, высоким художественным вкусом древних ювелиров. Но курган Аржаан-2 является далеко не самым большим из обнаруженных курганов Саяно-Алтая. Более величественным представляется Салбыкский курган – классическое срубное захоронение ямной культуры с воздвигнутым над ним большим курганом.
Тем не менее жизнь древних обитателей центра Азии остаётся малоизвестной. Это есть следствие предвзятого отношения советской академической науки к истории народов Евразии.
Стоит обратить внимание и на время начала истории скифов. По Геродоту, зарождение скифских племён происходит примерно в середине II тыс. до н. э., т. е. 3500 лет назад: «…Так рассказывают скифы о происхождении своего народа. Они думают, впрочем, что со времени первого царя Таргитая до вторжения в их землю Дария прошло как раз 1000 лет». Геродот называл скифов народом моложе всех, кочевые племена которых обитали в Азии. Массагеты стали давить их с востока, скифы перешли Аракс и пришли в киммерийскую землю, вытеснив оттуда последних105. Примерно тем же временем датируются войны скифов с египетскими фараонами. Но за тысячу лет до этого в Малую Азию пришли кочевники из евразийских степей, которых Арнольд Дж. Тойнби назвал ариями106.
В описании своего путешествия в Скифию, вернее сказать в Северное Причерноморье, Геродот упоминает десяток городов. Считается общепризнанным, что сам он побывал в греческой колонии Ольвии, где собрал основные сведения о скифах. Там Геродот записал «от Тимны, доверенного Ариапейфа» рассказы о смерти двух знаменитых скифов: образованного скифа царских кровей Анахарсиса и скифского царя Скила, погибших за измену скифскому образу жизни и любовь к греческим обычаям. В том числе сохранилось описание «обширного пышного дома, вокруг которого стояли сфинксы и грифы из белого мрамора», сгоревшего от удара молнии. Упомянут деревянный город Гелон.
Из чего следует, что уже тогда кочевые скифы соседствовали с городскими народами. Имелись торговые связи между ними, что не противоречит гипотезе Н.Н. Крадина о кочевниках и характеристике их государственных образований как продукте интеграции и следствие конфликта между номадами и земледельцами107.
Геродот наблюдал кочевой быт скифов, их кибитки, костры из костей животных в безлесой степи, окуривание коноплей. Он описал обряды побратимства, чаши из вражеских черепов и колчаны из человеческой кожи, «которая, – как удостоверяет историк, – действительно толста и блестяща, блеском и белизною превосходит почти все другие кожи»108.
Анализируя знаменитый труд Геродота, известный советский историк Б.В. Рыбаков относительно быта скифов заметил, что Геродот, когда называет скифов просто скифами, не добавляя эпитетов «пахари», «земледельцы», он говорит о степных кочевниках:
«Скифы доят кобылиц и ослепляют рабов, бьющих масло (§ 2). Не земледельцы ведь они, а кочевники» (§ 2)…» Скифы-кочевники жили сначала в Азии» (§ 11). «…Скифы не имеют ни городов, ни укреплений, но передвигают свои жилища с собою, и все они – конные стрелки из луков. Пропитание себе скифы добывают не земледелием, а скотоводством и жилища свои устраивают на повозках» (§ 46). «…Т. к. скифская земля совсем безлесна, то скифы варят жертвенное мясо на костре из костей животного». «…В жертву приносятся всякие домашние животные, преимущественно лошади» (§ 61). «…Свиней они не приносят в жертву вовсе и вообще не имеют обыкновения содержать свиней в своей стране» (§ 63). «…При похоронах царя убивают 50 лошадей» (§ 72).
Царя Дария перед его походом в Скифию предупреждают: «Ты готовишься, царь, вторгнуться в такую страну, где не найдешь ни вспаханного поля, ни населенного города» (§ 97). «…Скифские женщины постоянно сидят на своих повозках и занимаются женскими работами…» (§ 114). «…При вторжении персов скифы все повозки, на которых жили их дети и женщины, и весь скот с ними отправили заранее… на север (§ 121). «…Скифский царь отвечает Дарию: “У нас нет ни городов, ни обработанной земли; мы не боимся их разорения и опустошения…”» (§ 127).
Исходя из этого, Н.Б. Рыбаков называл большой натяжкой допущение наличия оседлых земледельцев у скифов в южной степной полосе. И находки в скифских курганах полностью подтверждают слова Геродота о кочевниках: об уходе за конем, доение овец, раскрой овечьего руна, скачущие всадники-лучники. Нет ни одного земледельческого сюжета в скифском искусстве109.
И это важно отсутствие земледельческих сюжетов в скифском искусстве. Если бы среди них были земледельцы, то в искусстве они нашли б отражение. Таким образом, совершенно прав Н.Н. Крадин, говоря о соседстве и определенном симбиозе кочевников скифов с горожанами и земледельцами, где, вероятно в силу своего военного преимущества, они занимали главенствующие позиции, в том числе являясь царствующими особами. Безусловно, имело место взаимопроникновение земледельческой, городской и кочевой культуры с изменением у тех и других образа жизни, обычаев и языка. О чем ярко свидетельствует трагедия скифов царских кровей Анахарсиса и Скила. В силу же значительного численного превосходства оседлых над кочевниками, наряду с другими причинами, часто имела место ассимиляция кочевников в оседлом обществе.
Европейские скифы оседали и в греческих городах. Неслучайно Гекатей Милетский110 назвал основанную при его жизни Керкинитиду «скифским городом». Если для греков скиф постепенно стал эталоном «варвара», «чужого», недостойного подражания, то сами скифы проявляли больший интерес к культуре и общественному строю греков, считают С.В. Алексеев и А.А. Инков111.
Но скифы Геродота, столкнувшиеся с греками и персами, вели в точности такой же образ жизни, как хунны из Китая и гунны в Европе112.
Из Авестийских сказаний известно, что родоначальником туранцев был Тура – сын Йимы, легендарного царя Арйан Вэджа (Вайджа). Туранцы противопоставлялись иранцам не только как кочевники оседлым земледельцам и пастухам, но и по внутреннему строю. В то время как иранцами правили священные цари кави, у туранцев сохранялась власть военных вождей парадата113. В дальнейшем на основе отдельных имен и названий в древних источниках историки связали историю скифов с иранцами, а лингвисты нашли некую общность их языков.
В отличие от легенд и сказаний, как и в истории ариев, более ценным материалом для истории скифов представляются археологические находки в древних курганных захоронениях с характерной чертой погребального обряда скотоводческих народов. Археологическими памятниками киммерийской эпохи в степях Восточной Европы считают клады бронзовых предметов вооружения и конского убранства в курганных захоронениях. Но культура киммерийцев и скифов настолько неотличима, что некоторые авторы отказываются считать киммерийцев особым народом. Все обитатели европейских степей VIII–VII вв. до н. э. были кочевниками, и не осталось следов их поселений, считают С.В. Алексеев и А.А. Инков. Чаще они не строили собственные курганы, а хоронили умерших в старых курганах представителей более ранней срубной культуры, из которой вырастает киммерийская культура114.
Со скифами связывают распространение вытянутых погребений, когда покойника укладывали на спину либо с небольшим наклоном набок. Голова его обращена на запад, в край заката и смерти – лицом покойный оказывался к восходящему солнцу. Покойников, как правило, клали в деревянные срубы, а над могилой делали вымостку из камня. В Придонских и Прикубанских степях встречаются так называемые подбойные захоронения – в погребальной камере, вырытой в длинной стене входного «колодца».
Этот обряд восходит ко времени катакомбной культуры. Надкурганными памятниками искусства предскифской поры были стелы из камня, которые сменили «каменные бабы» скифской эпохи, напоминавшие «оленные камни» народов Центральной Азии115. К этому времени относят и находки знаменитого ювелирного искусства в зверином стиле VII–VI вв. до н. э.
В Саяно-Алтайских степях под курганами находят как срубные, так и захоронения в «каменных ящиках» эпохи энеолита и поздней бронзы. Например, захоронения каракольской культуры Алтая, открытой и изученной в 1990–2009 гг. В.Д. Кубаревым. В каменном прямоугольном ящике из поставленных на ребро шести плит, в грунтовой яме одного из найденных им погребений обнаружены останки лежавшего на спине мужчины. На всех плитах-стенках имелись рисунки, выполненные гравировкой, выбивкой и красной краской с обилием сюжетов и персонажей. Покрытие ящика также состояло из шести плит, уложенных поперечно116.
Не менее широко в курганах представлены срубные захоронения. Из лиственницы изготавливался сруб, в который помещали покойного, оружие, предметы быта и украшения. Сруб возводился в яме, над ним делалось перекрытие из лиственничных бревен, камней и насыпался курган, размеры которого могли соответствовать знатности и значению покойника. Надо заметить, техника укладывания бревен в срубы современных жилых деревянных домов в Сибири мало чем отличается от таковой в срубах курганных захоронений VII–V вв. до н. э. у кочевников-скифов.

Кубарев В.Д. Памятники каракольской культуры Алтая. Селение Каракол. Курган 2, погребение 2117
Считается, в те времена среди кочевников еще имелись мастера, способные изготовлять прекрасные ювелирные изделия, оружие и предметы быта, но постепенно ремесло для людей Степи становится презренным занятием118. Как было на самом деле, ответить сложно. Дело в том, что в последующем у гуннов и тюрков кузнецы принадлежали к одному из самых уважаемых сословий. А утрата изящности в ювелирных произведениях у потомков скифов в центре Азии, возможно, связана с миграциями мастеров на запад, в т. ч. в Западную Европу. Ведь уходили, как правило, лучшие и бесстрашные, а «малосильные» оставались на местах. Вместе с воинами уходили кузнецы и ремесленники, без которых было бы некому создавать и ремонтировать оружие, средства передвижения и доспехи.

Серьга царицы саянских скифов из царского кургана Аржаан-2. Середина I тыс. до н. э. Национальный музей Республики Тыва им. Алдан Маадыра. Фото М. Чооду
Геродот писал об уходе в Малую Азию киммерийцев под натиском скифов с востока. Но сам же отметил, что и киммерийцы и скифы пришли с востока, так же как все кочевники Приаралья и Семиречья: «Существует еще и третье сказание (ему я сам больше всего доверяю). Оно гласит так. Кочевые племена скифов обитали в Азии. Когда массагеты вытеснили их оттуда военной силой, скифы перешли Аракс и прибыли в киммерийскую землю (страна, ныне населенная скифами, как говорят, издревле принадлежала киммерийцам)»119.
Попробуем разобраться, кого Геродот называл массагетами, давившими на скифов с востока. В персидских источниках нет слова «массагеты». По мнению С. Кляшторного, если массагеты и фигурируют в ахменидских надписях создателей империи Ахменидов (550–330 гг. до н. э.), то более всего на отождествление с ними мог претендовать племенной союз дахов (даев). Они упомянуты в Авесте среди племен, которые, по выражению персидского царя Дария, «не чтили Ахуру Мазду»120.
Особый интерес представляет одежда и вооружение массагетов: «Массагеты носят одежду, подобную скифской, и ведут похожий образ жизни. Сражаются они на конях и в пешем строю (и так и этак). Есть у них обычно также луки, копья и боевые секиры. Из золота и меди у них все вещи. Но все металлические части копий, стрел и боевых секир они изготовляют из меди, а головные уборы, пояса и перевязи украшают золотом. Так же и коням они надевают медные панцири, как нагрудники. Уздечки же, удила и нащечники инкрустируют золотом. Железа и серебра у них совсем нет в обиходе, так как этих металлов вовсе не встретишь в этой стране. Зато золота и меди там в изобилии»121.
Относительно железа и серебра у массагетов Геродот явно ошибался, а потому мы неслучайно поместили в книге фотографию ножа и кинжала из железа, инкрустированного золотом, с установленной датой изготовления в середине I тыс. до н. э., найденные в царском кургане Аржаан-2.
Как заметил С. Кляшторный, появление катафрактариев – конных воинов в тяжелых пластинчатых доспехах и на защищенных боевых конях – отмечено не только письменными источниками, но и документировано археологическими находками в стране дахов и массагетов. И потому имеются все основания считать массагетов одним из сакских (скифских) племен Казахстана, прямых потомков андроновского населения – ариев и туров, дахов и данов Авесты122.
Он отмечает, что эта генетическая преемственность древнего населения здесь установлена антропологами К.А. Акишевым и Г.А. Кушаевым (1963), О. Исмагуловым (1970). В 238 г. до н. э. одно из племен даев, парны (парфяне), возглавленное родом Аршакидов, создало в Персии новую империю, сменившую наследников Александра. А на севере, в степях Западного Казахстана и Приуралья, дахо-массагетская экспансия III в. до н. э. заставила уйти в Причерноморскую Скифию племена сарматов, потомков савроматов Геродота, близких сакам по языку, образу жизни и культуре123.
Ярким подтверждением силы массагетов является описание войны с ними в VI в. до н. э. могущественного персидского царя Кира II Великого, голову которого царица победителей Томирис приказала опустить в мешок, наполненный кровью: «Хотя, я вижу, и победила тебя в сражении, но ты причинил мне тяжкое горе, коварством отнявши у меня сына, и я насыщу тебя кровью, как угрожала»124.
Исследователь казачества Евграф Савельев отводил массагетам особое место в войсках гуннов. «…Массагеты любили украшать конскую сбрую, свои головные уборы и одежду золотом и серебром, носили яркие красные или голубые кафтаны, брили бороду, оставляя усы, а на бритой голове длинный чуб; в битвах были неустрашимы и беспощадны для врагов. Греческий историк Прокопий (VI в.) о нравах их выразился так: “А Массагеты суть величайшие пьяницы из всех смертных”. Западные же историки описывают их как самых свирепых, безобразных по наружности в мире людей»125.
Составители Казачьей энциклопедии считали, что в конце I в. массагеты могли попасть под власть асов-аланов и принять их этническое наименование126.
Но как бы ни складывалась история массагетов, так же как других скифских племен, мы вновь убеждаемся в передвижениях древних народов материковой Евразии с востока на запад или на юг. Сохранились описания завоевательных походов скифских царей в Малую Азию до Египта и в Персию. И нет свидетельств миграций в обратном направлении. Кроме того, в середине I тыс. до н. э. попытки вторжения в скифские земли персидских царей Кира II Великого в Среднюю Азию и Дария I в Северное Причерноморье закончились их поражением.
ВЫВОДЫ
1. Основной тип хозяйствования евразийских скифов – кочевое скотоводство.
2. Самые ранние скифские курганы обнаружены в центре Азии, что, наряду с другими фактами, в т. ч. письменными свидетельствами античных авторов, указывает на миграции скифов с востока на запад и на юг, но никогда наоборот.
3. Духовное единство скифов, их культура исходили из кочевого образа жизни.
4. В большинстве своем центральноазиатские скифы могли быть светловолосыми; о рыжих скифах писал Гиппократ. Но, безусловно, в смешанных браках с монголоидными девушками рождались скифы с монголоидными антропологическими признаками, а у южных границ с Персией, Грецией – темноволосые.
5. Письменных свидетельств о связи истории скифов с персидской историей, кроме войн между ними, не обнаружено, если не считать создание сакскими царями рода Аршакидов царской династии в Персии.
6. Убедительных доказательств связи языка скифов с языком персов нет, как практически отсутствуют в материковой Евразии ираноязычные топонимы и этнонимы. Исключение могут составлять территории, непосредственно прилегающие к северным границам Ирана.
Глава IV. Гунны
Если скифов называют персоязычным (ираноязычным) народом, то сменивших их на просторах Евразии гуннов уже относят к тюркоязычным. К такому заключению пришло большинство исследователей. Тюркоязычные народы в Азии известны с глубокой древности, когда и термина «тюрк» не существовало, в их числе называют азиатских хуннов.
Основы изучения истории хуннов были заложены китайскими историографами. В первую очередь это гениальный автор «Исторических записок» Сыма Цянь во II в. до н. э., затем Бань Гу в I в. н. э. и Фань Хуа в V в. На их трудах начиная с XVIII в. базировались исследования о хуннах европейских и русских ученых. Наиболее известны работы Y. Deguignes (1758), Abel Remusat (1826), Mc Govern W. (1939), Otto G. Maenchen-Helfen (1945), Н.Я. Бичурина (1828), Г.Е. Грумм-Гржимайло (1926), Л.Н. Гумилева (1960, 1990). Но история зарождения древнейших племен хуннов не отражена в китайской историографии, и сведения о них отрывочны. Из-за описки или неточного выражения Сыма Цяня были попытки отождествлять древних жунов с хуннами127. С чем не был согласен Л.Н. Гумилев.
«Динлинская» теория Грумм-Гржимайло более ста лет назад разрешила проблему расовых различий хуннов и китайцев. В эпоху династии Чжоу (после 1066 г. до н. э.) произошло этническое смешение северных чжоусцев с ханьцами. Грумм-Гржимайло писал, что многие китайские императоры имели орлиный профиль и пышную бороду. В «Троецарствии» герои описаны точно так же, а один из них, рыжебородый Сунь Цюань, даже носил прозвище «голубоглазый отрок»128. Л.Н. Гумилев отождествлял упомянутых северных кочевников с серами античного автора Птолемея и китайскими ди.
Как отмечалось, во II тыс. до н. э. на территории Западной и Южной Сибири жили представители восточной части андроновской археологической культуры, которая сменяется здесь культурой карасук (1400–800 гг. до н. э.), совпавшей с концом бронзы и началом железного века. Представители андроновской культуры по антропологическим признакам были европеоидами. Саяно-Алтай был родиной и афанасьевской археологической культуры, которую сегодня изучают в т. ч. западные археогенетики. Мы уже приводили результаты работ Clemence Hollard с соавт., где они прямо указывают, что афанасьевская культура генетически сходна с ямной культурой Волго-Уральского региона. Самое убедительное доказательство было получено по Y-хромосомам – в большинстве исследований останки этих культур принадлежали гаплогруппе R1b1a1a. Анализ же фенотипических SNP маркеров указывал на то, что и внешне афанасьевцы были похожи на ямников – в обеих культурах преобладали аллели, связанные со светлой кожей и голубыми глазами129.
Наследниками афанасьевцев стали племена тагарской культуры, которые, несмотря на многочисленные нашествия иноплеменников, сохраняли свою культуру до III в. до н. э. Но в Минусинских степях андроновскую культуру вытеснила карасукская археологическая культура, принесенная переселенцами из Северного Китая, которая может быть связана с племенем ди. Так в Сибири появился новый расовый тип – смесь европеоидов с монголоидами130.
В VIII–VII вв. до н. э. в центре Азии усиливаются скифские племена, известные в истории как «светловолосые динлины»131. Динлины обитали в «песчаной стране Шасай», т. е. на окраине пустыни Гоби, в Саяно-Алтайском нагорье, Минусинской котловине и современной Туве. Антропологический тип их характеризуют следующими признаками: рост средний, часто высокий, плотное и крепкое телосложение, продолговатое лицо, цвет кожи белый с румянцем на щеках, белокурые волосы, нос, выдающийся вперед, прямой, часто орлиный, светлые глаза132.

Поселок эпохи поздней бронзы на берегу одного из рукавов реки Катунь на Алтае. Реконструкция создана на основе результатов раскопок поселения Майма-XII, относящегося к ирменской археологической культуре позднего бронзового века IX–VIII вв. до н. э. Макет. Национальный музей им. А.В. Анохина г. Горно-Алтайск. Фото автора
По мнению Л.Н. Гумилева, енисейские кыргызы связаны именно с ними, а не с пришлыми с юга ди. Южная ветвь динлинов, кочевавшая к югу от Саянских гор, перемешалась с предками хуннов, а потому неслучайно китайцы внешним отличительным признаков хуннов считали высокие носы. Динлины вели преимущественно кочевую жизнь, хотя имели и поселения, строя жилища из войлока или дерева. Освоили выплавку железа в горнах, производили великолепное оружие, изделия для конной упряжи и землепользования. С этого времени начинаются интенсивные вторжения динлинов в пределы китайских царств. На юго-западе они конкурировали за обладания степными пастбищами и торговыми путями с массагетами133. А в IV в. до н. э. динлины вступают в соперничество с хуннами, в конце уступив им и смешавшись.
Правители китайских царств понимали, что справиться с северными варварами, как называли здесь кочевых обитателей Ордоса, Орхона, Южной Сибири, Алтая, Саян и Забайкалья, в прямом военном противостоянии непросто, а потому активно использовали дипломатические рычаги. Но среди царств не было единства. В конце V в. до н. э. одно из них Цзинь распадается на три самостоятельных: Вэй, Чжао и Хань. В китайской истории начинается так называемый период «Воюющих царств».
Междоусобные войны и практически непрерывная борьба с северными соседями в немалой мере способствовали не только гонке вооружений, но и техническому прогрессу. Китайцами был изобретён арбалет с бронзовым спусковым механизмом, у кочевников перенято использование конницы. Изменилась одежда китайцев: воины стали носить удобные короткие куртки и штаны, подобные тем, какие носили на севере. В эту эпоху китайские мыслители Конфуций, Лао-цзы, Мо-цзы и Мэн-цзы создали бессмертные произведения; полководец Сунь-Цзы написал знаменитый трактат «Искусство войны». Строились оросительные каналы и оборонительные сооружения.
Китайская цивилизация, по мнению Р.Н. Безертинова, ровесница шумерской, египетской цивилизации. Исчезли шумеры, египтяне, ассирийцы и финикийцы. Исчезли Персидская империя, Римская империя и десятки империй, появившихся позже в Европе. Появились и исчезли арабские халифаты. Тюрки создали десятки великих империй, и все они канули в историю. Только китайская цивилизация со своим неизменным мировоззрением не только не исчезла, а сегодня является одной из самых развитых и передовых134.
Но в древних китайских царствах не обошлось без влияния кочевников. Они же, вероятно, составили ядро народа, давшего династию Чжоу (1027–771 гг. до н. э.). Даже в IV в. н. э. чжоусцы, подобно хуннам, значительно отличались от монгольского прототипа китайцев. Известно, что император Ши-минь издал повеление «предать смерти до единого хунна в государстве, и при сём убийстве погибло множество китайцев с возвышенными носами, указывавшими, что в жилах хуннов и китайцев того времени текла кровь загадочной расы, к которой принадлежали динлины»135.
В свою очередь, взаимодействие кочевников с жителями китайских царств отражалось на их образе жизни, внешности. Как указывалось, монголоидные черты появляются у северных племён136.
В мировоззрениях соседей также не обошлось без взаимовлияния. В частности, центральное положение в учении «Школы инь-ян» занимала концепция усин, «пяти стихий». Пять стихий означали воду, огонь, дерево, металл и землю, впоследствии они эволюционировали в абстрактные силы. Если строение вселенной объясняли пять стихий, её происхождение связывалось с действием двух первичных сил инь и ян, ответственных за все природные явления. Ян, представлявшее мужское начало, ассоциировалось с солнцем, со всем светлым, ярким и сильным, сухим, твёрдым, мужественным. Инь связывалось с луной, тёмным, мрачным и слабым, олицетворяя женственность, пассивность, холод, влажность, податливость. В современном татарском языке слова ян, яна, янарга, янау ассоциируются с солнцем и со всем светлым, а переводятся как гори, горит, гореть, мужское начало. Слова инь, инэ, инэкей с татарского языка на русский переводятся как мать, обращение к луне, то есть связаны с луной и олицетворяют женственность, влажность, податливость137.
Взаимопроникновение северной кочевой и южной земледельческой культуры способствовало своеобразию восточной евразийской цивилизации. Благодаря использованию передовых для того времени средств передвижения у кочевников имелась возможность обмена с индийской, иранской, средиземноморской культурами. Бурные события I тыс. до н. э. в центре Азии совпадают с активизацией скифских племён Причерноморья. Конец периода «Воюющих царств» в Китае по времени совпадает с упадком египетской, греческой цивилизаций и зарождением Римской империи. В это время в Великой степи «скифский период» сменяется «гунно-сарматским»: на западе власть переходит к сарматам, на востоке усиливаются хунны, подчиняя соседние племена.
С начала II в. до н. э. хунны уже были хозяевами степных пространств от пустыни Гоби до Сибирской тайги. У них патриархально-родовой строй и бытовое рабство. Начиная с эпохи бронзы по всей Сибири в погребениях обнаруживаются останки, свидетельствующие об обычае «со-умирания» жены или наложницы и захоронение ее в могиле мужа. Это отмечено многими авторами (С.В. Киселев, 1951; А.П. Окладников, 1955; К.В. Сальников, 1952). Кроме того, обнаружены останки и принесенных в жертву мужчин (А.П. Окладников, 1955). Л.Н. Гумилев, ссылаясь на Н.Я. Бичурина, указывал, что аналогичный обычай во II в. до н. э. зафиксирован у хуннов138.
Напомним, к северу от хуннов обитали динлины. Они населяли оба склона Саянского хребта от Енисея до Селенги. В верховьях Енисея жили кыргызы (по-китайски – «цигу») – народ, возникший, вероятно, от смешения динлинов с неизвестным племенем гянь-гунь139, а на запад от них, на северном склоне Алтая, жили кипчаки, по внешнему виду похожие на динлинов и, вероятно, родственные им. К востоку от хуннов кочевали монголоязычные дунху140.
В конце периода «Воюющих царств» в Поднебесной начались реформы, направленные на изменение старых форм общественно-политических отношений. Основой реформ послужило учение легистской философской школы, утверждавшей право закона в регулировании взаимоотношений между людьми и государством, в отличие от взглядов великого Конфуция141 или Мо-цзы142, призывавших к совершенствованию социально-этических норм. Легисты же призывали к абсолютной власти верховного правителя, без чего, по их мнению, невозможен порядок.
Таким образом, можно видеть, что инженерное искусство, наука и философия античных времен на Дальнем Востоке достигли высочайшего уровня развития. Наиболее активно философские воззрения легистов внедрялись в западном царстве Цинь. С подачи талантливого чиновника Шань Яна143 там проводятся кардинальные социально-политические преобразования. Всё царство разделили на уезды, жителям разрешили продавать и покупать землю, отменили многие наследственные привилегии аристократии и упразднили традиционную систему социальной иерархии. Введённая система социальных рангов позволила получать высокие должности обладателям денег и за выдающиеся военные заслуги. В результате было разрушено господство старой аристократии, преодолены противоречия между знатностью и богатством, между аристократами и заслуженными людьми. Имело значение и географическое положение Цинь, северо-западные границы которого соприкасались с племенами кочевников. В состоянии перманентной войны с ними совершенствовалось оружие и военное искусство, в том числе многое перенималось у тех, кого они называли варварами.
После смерти циньского правителя Чжуансяна в 246 г. до н. э. престол унаследовал его тринадцатилетний сын Инчжен. Регентами юного царя становятся мать Чжао Цзи и её фаворит, купец и дипломат Лю Бувэй, возвысившийся благодаря утончённому коварству и умению строить взаимоотношения с нужными людьми. Власть в государстве практически перешла к нему. Инчжен, достигнув совершеннолетия, попытался вмешаться в управление, но столкнулся с заговором хитрого фаворита и собственной матери. Но молодому царю удалось найти верных сторонников и подавить заговор, изгнав из дворца соперника.
Цинь под руководством Инчжена стало самым могущественным из китайских царств; практически завершилось объединение раздробленных, враждующих между собой малых государств Поднебесной в единую империю. Когда Ци после царств Чжао, Вэй, Чу и Янь сложило оружие в 221 г. до н. э., Инчжэн провозглашает столицей государства город Сяньян144, принимает титул «шихуанди»145. Под именем Цинь Шихуанди он становится основателем первой Китайской империи.
В строительстве города приняли участие не менее миллиона людей, в том числе рабы, согнанные отовсюду. Столица раскинулась по обоим берегам реки Вэйхэ, через которую построили чудо техники того времени – крытый мост. К северу располагался собственно город с многочисленными улицами, парками, великолепными дворцами императора и высшей знати, в число которых входили бывшие правители срединных царств. К югу от реки Вэйхэ находился знаменитый императорский парк, где отдыхали и охотились император и приближённые. Одновременно начали строить дороги с единым стандартом ширины в три колеи для повозок и колесниц с почтовыми станциями быстрой связи с отдаленными провинциями. Ничего подобного в Европе тех времен еще не было! В качестве денег стали употребляться золотые слитки и медные монеты единого образца.
Располагая огромными материальными ресурсами покорённых царств, Цинь Шихуанди принимает решение навсегда обезопасить империю от вторжений серверных кочевых народов, в первую очередь набиравших силу сюнну (хуннов). Построенные задолго до его правления разрозненные крепостные укрепления по границе с евразийскими степями начинают соединять в единую цепь укреплений. Работы велись в тяжелейших условиях днем и ночью, но средств и людских жизней не жалели. Стена146 достигала высоты 10–15 метров, а её ширина позволяла проехать одновременно пяти всадникам. Она протянулась на пять тысяч ли147. Через определённые промежутки возводились дозорные башни, где в ночное время зажигались огни, означая спокойствие на границе. Строились и казармы для воинов, несших службу на Великой стене. Но даже во всей Поднебесной не нашлось необходимого количества солдат для её обороны на всём протяжении, и в действительности она оказалась не столь эффективной, как было задумано.