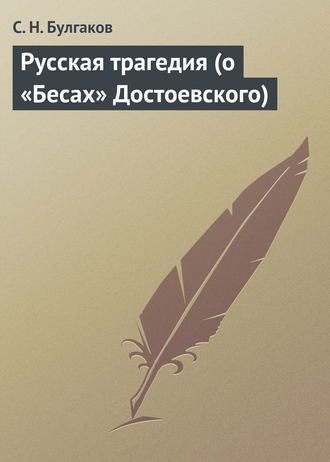
Сергей Булгаков
Русская трагедия (о «Бесах» Достоевского)
Ставрогин «значит» для Верховенского не меньше, если не больше, чем для Шатова и Кириллова, он есть его выявленное я, его проекция во вне, живой «самозванец». Но неужели же все так слепы, неужели и трезвый, расчетливый Верховенский не видит, что Ставрогин совсем не то, что ему нужно, не видит, что Ставрогин пустое место, отдушина для инспираций зла, медиум? Но потому-то этого не видит и Верховенский, что в основе он вовсе не трезв, он одержим, как и все остальные, для него Ставрогин тоже есть только зеркало, двойник. Тот самозванец, которого хочет найти в Ставрогине Верховенский, конечно, есть он сам, а еще более тот, кто им владеет, – настоящий и подлинный самозванец.
Таким образом, провокатор сам оказывается жертвой провокации, одержащая его сила зла не встречает в нем сопротивления и, превращая его в свою личину или «скорлупу», делает его своим орудием. И постольку то движение, которое порождается и руководится Верховенскими, есть порождение духовной провокации, в которой лишь одним из частных случаев является провокация политическая:
Хоть убей, следа не видно,
Сбились мы, что делать нам?
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам.
Этими строками Пушкина, взятыми эпиграфом к «Бесам», определяется и общественная философия романа. Революция в нем рассматривается как религиозная драма, борьба веры с неверием, столкновение двух стихий в русской душе. Прав или неправ Достоевский в своем понимании религиозной природы русской революции? Очевидно, во всяком случае, что это не есть вопрос политического учения или социальной доктрины, но прежде всего вопрос религиозного миропонимания. Существенна здесь совсем не политическая доктрина самого Достоевского (которая к тому же отсутствует в романе), но религиозный диагноз той интеллигенции, которой принадлежит духовно руководящая роль в русской революции. Поэтому вдумчивое отношение к проблеме Достоевского требует прежде всего совершенно освободить ее от политики и вообще от связи с каким-либо политическим мировоззрением (ведь не забудем, что одержимыми представлены не только «социал-революционер» Верховенский, но и «черносотенец» Шатов). Вопрос о религиозном смысле революции поставлен в «Бесах» так: является ли в ней духовно определяющим человекобожие, которое силою вещей становится демоническим, переходит в одержимость? Ставрогин и Верховенский, орудие и жертва духовной провокации, есть ли для нее существенный симптом или только случайное явление, накипь? Вопрос этот, который за четверть века до революции с таким изумительным ясновидением поставил Достоевский, можно на язык наших исторических былей перевести так: представляет ли собою Азеф-Верховенский и вообще азефовщина лишь случайное явление в истории революции, болезненный нарост, которого могло и не быть, или же в этом обнаруживается коренная духовная ее болезнь? Страшная проблема Азефа во всем ее огромном значении так и осталась неоцененной в русском сознании, от нее постарались отмахнуться политическим жестом. Между тем Достоевским уже наперед была дана, так сказать, художественная теория Азефа и азефовщины, поставлена ее проблема. Конечно, возможно не соглашаться с Достоевским в оценке симптоматического значения нащупанных им явлений, можно видеть в них не духовное существо русской революции, но ее болезнь. Пусть так, пусть Достоевский заблуждается в своем историческом суждении, пусть этот роман будет не о русской революции, но о болезни русской души. Но и тогда остается вне всякого спора и его глубокая жизненная правда, и величайшая важность того художественного анализа, которому подвергнута здесь проблема «одержимости», утраты духовного центра. И ныне, когда художник своими образами снова ставит перед русским обществом тот же вопрос, его стараются заглушить надругательством над Достоевским, топаньем, кашлем, протестами. Нет, роман «Бесы» нужен современной России не меньше, чем раньше, должна же она углубиться в себя и совершить μετανοεια{18}, переворот в мыслях и чувствах, то «покаяние», о котором говорится в самом начале евангельской проповеди. Достоевский приносил в этом романе покаяние за свою родину, по образу боговидца Моисея, который прекословил Богу, споря за народ свой. «И возвратился Моисей к Господу и сказал: о, (Господи!) народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого бога; прости им грех их; а если нет, то изгладь и меня из книги Твоей, в которую Ты меня вписал» (Исход, 32,31–32).
Таково основное содержание трагедии «Бесы». Трагедия смотрит на жизнь с высоты, и это возвышение как духовное освобождение переживается прежде всего ее автором. Когда ему удается художественно объективировать, изнести из недр своего духа его муку и его раскол. Таково и было отношение Достоевского к «Бесам». Популярным писателем наших дней недавно было заявлено, что Достоевский хотя и гений, но злой гений, который должен быть взят под надзор полиции нравов. В этом понятии «злой гений» я вижу contradictio in adjecto и в свидетели призову Пушкина, устами Моцарта определившего непорочность гения:
Он же гений,
Как ты да я, а гений и злодейство
Две вещи несовместные.
И действительно, истинный гений, тот, который имеет родиной «отчизну пламени и слова», не может быть злым, не может быть лживым в своей естественной боговдохновенности. Конечно, носитель гения может иметь и пороки, и страсти, вообще гениальность не предполагает необходимо личной святости, но поскольку он творит гениально, он поднимается над личной своей ограниченностью, и поэтому приравнивание Достоевского как гения одному из его созданий есть просто суждение дурного вкуса. К сожалению, эта точка зрения нашла и вполне серьезного выразителя в лице биографа Достоевского Н. Н. Страхова; в недавно опубликованном письме к Л. Н. Толстому[4] Страхов дает самую уничтожающую характеристику личности Достоевского, которая производит особенно тяжелое впечатление в устах человека правдивого и к нему близкого. Отдавая должное моральным качествам Страхова, я все-таки нахожу в ней признаки неоспоримой ограниченности и близорукости: несложному и рациональному Страхову была слишком чужда и несимпатична вся противоречивая сложность личности Достоевского с ее провалами, подпольем, эпилепсией не только в нервах, а и в моральном характере, но и с ее солнечными озарениями и пророческими прозрениями. Плохо ощущая последнее, Страхов отталкивался от первого, оттого изображение Достоевского, сделанное к тому же в письме к прямолинейно морализирующему Толстому, и носит столь неприятный привкус. В этом письме Достоевский приравнивается своим героям. «Лица, наиболее на него похожие, это герой „Записок из подполья“, Свидригайлов в „Преступлении и наказании“ и Ставрогин в „Бесах“»[5]. Когда Страхов характеризует Достоевского по личным впечатлениям, с ним трудно спорить, потому что лично мы уже не можем знать Достоевского; однако вправе находить эту характеристику музыкально детонирующей. Но, когда наряду с этим применяется и только что указанный прием, мы можем уже судить и протестовать против неверности и близорукости этого утверждения, и даже более того, этот прием делает сомнительной ценность и всего остального рассуждения. Нет сомнений, что всеми «бесами», о которых рассказывает Достоевский в своем романе, был одержим он сам, и все его герои, в известном смысле, суть тоже он сам, во всей антиномичности его духа. И ту духовную борьбу, которая раздирает Россию, он изживал в своем всеобъемлющем духе. Но поскольку он художественно понимал и объективировал ее, он уже освобождался и возвышался над нею; когда говорят, что сам Достоевский – это Федор Карамазов или Ставрогин, или Свидригайлов, забывают, что каждый из них, исчерпываясь и ограничиваясь данным своим устремлением, себя не видит и не может написать ни своего художественного автопортрета, ни всего остального содержания романов. Достоевский не был святым или праведником, в его душе шла ужасная борьба Бога с дьяволом, но, верю, он вышел из нее не побежденным, а победителем. Ведь уж если приравнивать Достоевского его героям, то отчего же не сказать, что в нем есть не только Федор Карамазов или Свидригайлов, но и Идиот, и Хромоножка, и Алеша, и Зосима, а главное, Тот, Кому зажигал лампаду Кириллов и Кого заточил в темницу Великий Инквизитор. Ведь коли давать веру художественному гению и его правдивости, то надо давать ее до конца. A это значит, что душа Достоевского не была в том мраке, в котором находится Ставрогин, или в том гниении, в каком живет Федор Карамазов, хотя она знала эти состояния как свою болезнь и спасалась от нее «у ног Иисусовых». «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные», «не к праведникам пришел Я, но к грешникам», – говорил Тот, Кто был окружен блудниками, грешниками и мытарями, Кто исцелял бесноватых, и Он приходил вечерять к той многострадальной душе, в которой жил «легион», ее сотрясавший. И, чувствуя Его приближение, больной начинал видеть свою болезнь, понимать свою одержимость и тем уже освобождался от нее. Этот предрассветный час в жизни исполинской русской души и запечатлен в романе «Бесы».







