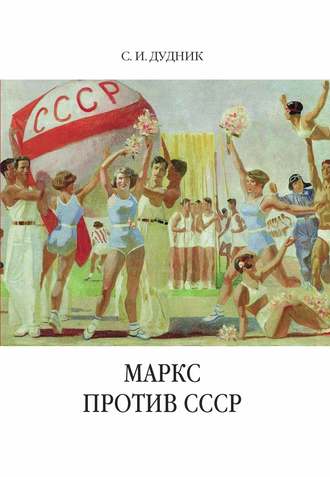
С. И. Дудник
Маркс против СССР. Критические интерпретации советского исторического опыта в неомарксизме
© С. И. Дудник, 2013
© Издательство «Наука», 2013
© П. Палей, оформление, 2013
Предисловие
Еще совсем недавно намерение написать книгу о марксизме, связывая ее с реалиями нашей действительности, показалось бы по меньшей мере странным. Все классические марксистские схемы представлялись бесповоротно устаревшими. Образ рабочего, долгое время претендовавший на центральное место в общественном спектакле, вначале потерял внимание со стороны средств массовой информации, а затем и вовсе исчез из поля зрения. Да и в то время, пока это еще не произошло, его было довольно трудно отождествить с пролетарием Маркса, которому, как известно, было нечего терять, кроме своих цепей. Казалось, что мир необратимо изменился – не в том смысле, что он стал более справедливым, но в том, что для его описания необходимы иные понятия, более современные. Было бы странно обращаться к понятию «пролетариат», так как все сходились во мнении, что оно пригодно лишь для описания явлений, оставшихся навсегда в прошлом. Если бы знаменитая книга Г. Лукача «История и классовое сознание», самая важная глава которой называлась «Овеществление и сознание пролетариата», была издана у нас в 90-х годах, то она скорее всего была бы встречена язвительной критикой. Фигура рабочего, создающего все общественное богатство и в то же время живущего в нищете, воспринималась большинством как абсолютный анахронизм.
Но в первом десятилетии XXI века все переменилось настолько, что не будет преувеличением сказать, что мир вернулся во времена Маркса. Тот, кто пользуется последними моделями iPhone и iPad, вряд ли не знает, что они произведены на расположенных в Китае заводах, где собирается большинство продуктов Apple. Там же находятся заводы и других производителей электроники. В целом понятно, что главная причина размещения этих заводов в Китае – дешевая рабочая сила. Но просочившиеся в прессу сведения об условиях труда на этих предприятиях – 60-часовая рабочая неделя, отсутствие перерывов, расселение рабочих в общежитиях, лишенных элементарных бытовых условий, использование детского труда и т. п. – сразу же вызывают в памяти страницы «Капитала», описывающие нечеловеческие условия труда и повседневной жизни пролетариев.
В других странах третьего мира чаще всего положение рабочих еще хуже. Так, например, промышленность Индии «славится» тем, что в ней отсутствуют даже самые элементарные экологические ограничения. Именно здесь произошла самая крупная по количеству пострадавших техногенная катастрофа. 3 декабря 1984 года на заводе компании Unione Carbide в индийском городе Бхопал произошел аварийный выброс паров метилизоцианата. За полтора часа в атмосферу было выброшено около 42 тонн ядовитых паров. Пострадали близлежащие рабочие кварталы, где погибло 18 тысяч человек. Общее число пострадавших оценивается в 600 тысяч человек. Даже сегодня, когда работа завода приостановлена, на наиболее зараженных территориях возле него продолжают жить люди.
И это далеко не единственный случай: во многих городах Азии, Африки, Южной Америки деятельность промышленных предприятий привела к необратимому загрязнению окружающей среды токсичными и опасными для жизни отходами. В этих городах наблюдателей поражает не только ужасающая нищета, но и самоубийственное стремление местных жителей получить на таком смертоносном предприятии работу.
Описанный Марксом пролетариат, исчезнувший в европейских странах, появился вновь – теперь уже в третьем мире. Благоприятный климат позволяет новым пролетариям уже не тратиться на сооружение лачуг, а жить в картонных коробках на мусорных свалках, а то и на кладбищах, что в перспективе также создает еще одну статью экономии расходов. Дешевая смерть делает жизнь еще более дешевой. Различие в уровне жизни в странах третьего мира измеряется тем, что если, например, в Камбодже, беднейшей стране Азии, даже самый бедный житель может приобрести старенький мотобайк, то во многих странах Африки велосипед, стоящий 20–30 долларов, является недоступной роскошью.
Но сейчас, чтобы увидеть описанного Марксом пролетария, необязательно ехать куда-то в Азию или Южную Америку. Достаточно посмотреть на наших гастарбайтеров, которые хотя и не работают на заводах (потому что их уже нет в России), но безусловно заняты «общественно необходимым» трудом – строят дома, убирают улицы, водят маршрутные такси и т. д. Самая неквалифицированная и самая низкооплачиваемая работа является их участью. Это и есть те «проклятьем заклейменные», тот «мир голодных и рабов», о которых говорит Маркс. Их классовое сознание находится на самом низком уровне, так как их объединяет не требование упразднения частной собственности, но ненависть к «белым» рабовладельцам. В современной России появился не только обнищавший пролетариат с окраин Советского Союза, но и противостоящий ему правящий класс. Эти два класса еще далеко не полностью осознают свои интересы, и поэтому не понимают, почему их разделяет столь сильная ненависть. Они еще стихийно ищут какое-то подобие классовой идеологии, которая позволила бы им оправдать свое положение в мире и сформировать законченное представление об идеальном общественном порядке.
Удивительно, что все это уже происходило в истории человечества, все это было описано классиками марксизма, и теперь повторяется вновь. Лишнее подтверждение той саркастической формулы, что история учит лишь тому, что она ничему не учит. Объявив марксизм устаревшей теорией, мы внезапно оказались в реальности, которую только марксизм исчерпывающим образом и объясняет. Мы именно теперь и живем в мире, где капитал покупает рабочую силу по цене ее воспроизводства, и все, что эту цену хоть немного увеличивает, достигается кровью и потом борьбы пролетариата за свои права. Русским в России платят больше, чем таджикам, только потому, что в головах работодателей со времен школьных уроков сохранились туманные знания о русских революциях начала XX века. Объяснять этот факт расовой или национальной солидарностью значило бы игнорировать любую, даже самую элементарную социальную теорию. Правоту марксизма мы можем осознать не вследствие ученых дискуссий, а ощутив ее, как говорится, на собственной шкуре. При самом оптимистичном сценарии дальнейшего развития нашей страны мы оказались в положении путешественника во времени из знаменитого романа Герберта Уэллса – мы вернулись в собственное прошлое, чтобы на личном опыте убедиться, насколько Маркс был прав.
В русле такого рода общих представлений и формировалась идея этой книги. Возвращение «назад, к Марксу» с целью критической оценки того исторического опыта построения общества социализма, который был приобретен нашей страной в прошлом столетии. Основанные на марксистской социальной теории оценки этого опыта весьма разнообразны. Одни из них основаны на отказе признавать опыт СССР социалистическим, так как необходимое для социализма сочетание политической и экономической демократии в советском опыте достигнуто не было. Другие, отталкиваясь от признания, что СССР все же двигался по социалистическому пути, связывают неудачи советского опыта с тем, что он осуществлялся в исторически отсталой стране. Наконец, есть теории, согласно которым, социализм в СССР «перерождается», будучи не в состоянии ответить на вызовы постиндустриального этапа модернизации. В силу идеологических причин любая критика советского опыта во времена СССР категорически отвергалась. Теперь возможен и необходим иной подход к этой критике, который адекватно учитывал бы все ее сильные и слабые стороны. Более того, необходима адекватная оценка советского периода как закономерного этапа в истории России, его отрицательных и положительных сторон.
Следует сразу же сказать, что опыт западноевропейского марксизма в накоплении и систематизации такого рода критических оценок не играет решающей роли в решении поставленной нами задачи. Конечно, знакомство с книгой Г. Лукача «История и классовое сознание», а также с работами Франкфуртской школы дает немало нового. Но в каком-то смысле это запоздалое чтение также представляет собой путешествие во времени. Нетрудно составить общее представление о том пафосе, который объединяет, точнее, объединял все идейное многообразие, представленное западноевропейским марксизмом, в цельное и более-менее законченное течение. Это пафос радикального освобождения жизни, общества и природы из-под той власти, которую установил над ними капитал. Поэтому тема отчуждения была центральной для всех теоретических дискуссий внутри западноевропейского марксизма. Любые проблемы – как политической философии, так и философии истории – рассматривались в контексте капиталистического проекта эксплуатации человека человеком. Отсюда характерная для Франкфуртской школы, а в определенной мере и для всего западноевропейского марксизма идея, что истоки актуального безраздельного господства капитала лежат в рациональности, утвержденной в эпоху Просвещения. Западный мир не способен измениться изнутри, и ему не остается ничего другого, кроме ожидания грандиозного события, которое вернуло бы жизни европейца историческое измерение. Поэтому как только маоистский Китай начал представлять собой политическую силу, с которой Запад был вынужден считаться, так сразу же надежды западноевропейского марксизма были обращены на Восток. Критический настрой западного марксизма, его этическое и политическое мышление закономерно становится «подрывным», субверсивным. Капиталистической эксплуатации и дегуманизации западноевропейский марксизм противопоставляет возможность превращения всей социальной и культурной реальности в пространство тотального сопротивления. С точки зрения западного марксизма это тотальное сопротивление должно быть развернуто на два фронта – против либеральной (и в крайней форме фашистской) и социалистической (в крайне форме сталинистской) организации господства капитала. Советский исторический опыт, таким образом, исчерпывается тотальностью капиталистической эксплуатации, он устраняет лишь индивидуальную форму эксплуатации, но не устраняет саму эксплуатацию, наоборот, сообщает ей всеобъемлющий характер «эксплуатации всех всеми». Согласно убеждению, разделяемому большинством представителей западноевропейского марксизма, «советский режим ни в коей мере не является социалистической системой… социализм несовместим с бюрократической, ориентированной на потребление социальной системой… он несовместим с тем материализмом и рационализмом, которые характеризуют как советскую, так и капиталистическую систему».[1]
Иными словами, ничего, кроме тотальной системы капиталистической эксплуатации, кроме различных вариантов этой системы, с точки зрения западноевропейского марксизма в мире не было и нет. В этом смысле проблема, которой посвящена эта книга, в западном марксизме не может даже возникнуть, так как объектом критики всегда является только система капитала, принимающая в своем развитии многообразные формы. В то же время характерная для западного марксизма готовность видеть за этим многообразием единую основу выгодно отличает его от советского марксизма, который не был склонен отходить от хорошо известного схематизма в критике противостоящей системы. Такой схематизм помешал зафиксировать и осмыслить ряд важнейших трансформаций этой системы. Он, в частности, помешал установить тот факт, что классическая последовательность «абстрактный труд – стоимость – деньги» оказалась преобразованной в совершенно новую фигуру, олицетворяемую финансовым капиталом. Господство капитала также приняло новую форму, так как от контроля над производством товаров капитал перешел к контролю над жизнью – разумеется, не над жизнью вообще, а в той мере, в какой эта жизнь необходима для производства. Именно эта трансформация стала причиной возникновения Welfare State (государства всеобщего благосостояния), и именно с этой новой формой в западном марксизме связывалось объяснение природы советского строя. Трансформации был подвергнут и краеугольный камень марксисткой теории – закон стоимости. Теперь в стоимость, помимо общественно необходимого рабочего времени, пришлось включать кооперацию, механизмы коммуникации, работу социальных служб и т. д., поскольку все эти факторы оказались прямо задействованными в процессе создания стоимости. В западном марксизме это послужило поводом для рассуждений о «коммунизме капитала».
Управление капиталом, прежде сосредоточенное на самом предприятии, утверждается на уровне общества в целом. Это предопределяет появление новых механизмов угнетения, связанных с суггестивным воздействием на психику, с манипуляциями сознанием, с использованием особых языковых форм. Отсюда новые формы классовой борьбы, выражающиеся в создании новых прав на общественные блага, прав, очевидным образом противостоящих праву частной собственности. Конечная цель – упразднение тех форм доступа к общественным благам, которые существовали в форме одалживания, кредитов, и формирование новых способов, основанных на требовании «социальной ренты». Дело даже не в каких-то конкретных формах борьбы, а в том факте, что когнитивный труд производит альтернативные возможности развития, механизмы разрешения конфликтных ситуаций, способы выхода из кризиса. Диалектика, по выражению Г. Лукача, перестает быть привилегией сознания пролетариата и становится теоретическим оружием капитала, который использует его с целью развития и организации общества. Здесь речь идет не только о часто цитируемых случаях внимательного прочтения марксова «Капитала» теми, кто управляет реальным капиталом, но и о том, что современное общество, все чаще и чаще описываемое в категориях глобального кризиса, испытывает острую теоретическую потребность в философии, дающей глубокое понимание настоящего. Марксизм, по нашему убеждению, один из самых реальных претендентов на роль такой философии.
Глава 1. Курс на построение социализма в отдельно взятой стране
1.1. Критика справа: тезис о преждевременности русской революции
Сегодня русские революции начала XX века представляются весьма далекими событиями, мало связанными с современностью, о чем, казалось бы, свидетельствует среди прочего и то, что они, как и любые события древности, обросли мифами, легендами, а мемуары непосредственных участников не содержат ни одного упоминания ни об одном каком-либо факте, в отношении достоверности которого все были бы единодушны. В то же время, если судить по проклятиям в адрес революционных событий начала XX века, раздающимся с одной стороны, и по не менее гневным отповедям, звучащим в ответ с другой, то, возможно, следует сделать вывод, что эти события все еще продолжают будоражить русский дух, а значит, все еще сохраняют для него свою притягательность и свою тайну. И даже при самом поверхностном взгляде на данный вопрос нельзя не признать, что почти все историческое развитие России в XX веке находилось в непосредственной зависимости от драматических событий Октября 1917 года, которые в свою очередь были бы невозможны без революции 1905–1907 годов и без Февраля 1917 года. Более того, и сами эти ключевые события истории России XX века не были, как это иногда пытаются доказать, следствием исключительно внешнего вредоносного влияния на мнимую идиллию русской монархии. Эти революции были органичны русской истории, как органичной ей была и идея «русского коммунизма». В этих революциях как в фокусе сконцентрирован ряд характерных черт русской ментальности, «русское» отношение к собственности, «русское» отношение к труду, «русское» представление о природе власти и государства и т. д. Поэтому осмысление революций начала XX столетия в каком-то смысле является ключевой проблемой для осмысления глубинных противоречий русской истории вообще, по крайней мере нельзя понять историю России, не постигнув смысла этих революций, и, следовательно, того длительного периода русской истории, который они предопределили.
Пока на данный момент, в первые десятилетия XXI века, остается превалирующим представление, что именно эти революции и завели наше отечество в тупик. В каждом отдельном случае такое мнение, вероятно, нетрудно опровергнуть, гораздо сложнее найти причины того, почему оно столь часто воспроизводится в самых разных формах. В то же время бесспорен приоритет научно обоснованного суждения перед обыденным сознанием. И в этом отношении не может остаться незамеченным тот факт, что в постсоветские десятилетия, свободные, казалось бы, от идеологического принуждения, в отечественном общественном сознании не появилось ни одной интерпретации истории, которая хотя бы частично могла соревноваться с марксистской интерпретацией. Марксистские же интерпретации русских революций, совсем не обязательно совпадающие с догматикой «советского марксизма», основываются, как правило, на признании решающей роли революций в истории и исключают их трактовку в качестве событий, спровоцированных внешними враждебными силами.
Поэтому анализ критических интерпретаций советского исторического опыта, выдвинутых в рамках марксизма, было бы целесообразно начать с теорий, обосновывающих историческую преждевременность русских революций. Все они в конечном счете сводятся к убеждению, что Октябрьская революция как кульминация русской революции, хотя и не была бессмысленна, но стремилась, в сущности, к невозможному, стремилась достичь желаемого сразу же, одним актом, тогда как движение к любой цели обязательно предполагает прохождение через необходимые промежуточные стадии. Революция, согласно такому представлению, есть сложное, противоречивое единство скачка и постепенности, прерывности и непрерывности, и если в революционных событиях ставка делается на один момент – в случае русских революций на момент скачка, разрыва, – то историческая трагедия оказывается неизбежной. Отметим, что обоснование представлений о преждевременности русской революции предстает в виде обращения к аутентичности марксизма, к авторитету его классиков. «Как заметил Энгельс, для всякого данного класса нет большего несчастья, как получить власть в такое время, когда он, по недостаточному развитию своему, еще не способен воспользоваться ею надлежащим образом: его ожидает в этом случае жестокое поражение. Что касается нашей трудящейся массы, то ее поражение было бы тем неизбежнее, в случае захвата ею власти, что, как это всем известно, Россия переживает теперь небывалую экономическую разруху. Кто согласен с этим, – а с этим согласно огромное большинство наших организованных демократов, – тот должен наконец сделать правильный политический вывод им самим признаваемых посылок: он должен разъяснить трудящейся массе, что русская история еще не смолола той муки, из которой будет со временем испечен пшеничный пирог социализма…»[2] Данная позиция сразу же приобрела не только теоретическое значение, но стала программной для лидеров русской социал-демократии и меньшевизма.[3]
Утверждение о преждевременности русской революции основывалось на вполне правомерном представлении о том, что она является следствием целого комплекса проблем, возникших еще в XIX столетии, что она органически вытекала из всей совокупности фактов прошлого и настоящего. Особое значение из этой совокупности фактов русские марксисты единодушно отводили реформе 1861 года, которая и создала почву для революционного решения аграрного вопроса. Но между реформой 1861 года и революцией 1917 года не было жесткой механической связи, революция не была предопределена, радикальное решение вопросов, не решенных в 1861 году, было обусловлено накоплением и обострением противоречий иного плана. Перед Россией открывалась возможность и реформистского решения аграрного вопроса, и именно эту цель ставил перед собой П. А. Столыпин, но соотношение политических сил, участие России в мировой войне и иные обстоятельства не позволили эту возможность реализовать.
В то же время на формирование представлений о преждевременности русской революции оказывала серьезное влияние идея «догоняющего» или «запоздалого» развития России, которая впервые была сформулирована еще историком С. М. Соловьевым в «Публичных чтениях о Петре Великом» (1872): «Простые условия детских перегонок и конских скачек не могут быть сравниваемы с необыкновенно сложными условиями исторического развития народов. Русский народ не отстал по своему развитию от других европейских народов, а только запоздал на два века благодаря тем неблагоприятным условиям, которые окружали его со всех сторон до самого Петра. Разница двух понятий очевидная: отсталость нашего народа предполагает в нем меньшие внутренние силы, меньшую способность к развитию сравнительно с другими народами Европы, а запоздалость – только менее благоприятный исход этого развития благодаря чисто внешним влияниям».[4] Согласно Соловьеву, Россия принадлежит к христианской цивилизации, что гарантирует ей историческую общность с судьбами Европы. Однако уже ученик Соловьева В. О. Ключевский осознавал, что отставание России от Европы не имеет исключительно количественного характера, что проблема соотношения Востока и Запада гораздо сложнее, и что движение отставшей страны вслед за развитыми не может быть повторением того пути, по которому когда-то эти развитые страны шли в своей истории. «Закон жизни отсталых государств или народов среди опередивших: нужда реформ назревает раньше, чем народ созревает до реформы. Необходимость ускоренного движения вдогонку ведет к перениманию чужого наскоро».[5] Примером такого «перенимания чужого наскоро» Ключевский считал преобразования Петра I и Александра II. Результаты этого ускоренного перенимания выразились в неразвитости, косности, чрезмерной бюрократизации российского государства, в фактическом отсутствии защиты гражданина через правовые механизмы, в беззаконии и произволе власть имущих, в неспособности правящего класса не только решать возникающие проблемы общественного развития, но даже и составит о них более-менее верное представление.
Очевидно, что и Соловьев и Ключевский, далекие от марксизма и даже поверхностно не знакомые с его социальной теорией, констатируют тот факт, что в конце XIX века различные страны и регионы мира развиваются неравномерно, и различия между ними не сводятся только к срокам и темпам развития, но и распространяются и на его формы, и на его характер. Неравномерность всемирно-исторического развития служила исходной предпосылкой для формирования представлений об «отсталости» России и о необходимости «догонять» передовые страны. Освоение достижений этих передовых стран, осмысление их опыта может происходить по-разному, и особенностью России в ее «догоняющем» развитии было то, что именно власть взяла на себя обязанность по мере возможного преодолеть отставание. Это привело к тому, что в России некоторые элементы экономического прогресса, некоторые стороны социально-политического строя были навязаны правящим классом, тогда как в Европе эти заимствуемые элементы вызревали постепенно в самом гражданском обществе. Элементы свободного рынка или, например, судебная система, основанная на равенстве сторон и на состязательности процесса, были в Европе органическим порождением всего процесса общественного развития, тогда как в России эти же самые элементы чисто внешним образом соседствовали с элементами феодализма и архаики. В то же время власть, выступая в глазах общественного мнения инициатором реформ, в необходимости которых мало кто сомневался, получала возможность на какое-то время укрепить свое господствующее положение. Однако в конечном счете эта «миссионерская» роль правящего класса только способствовала обострению революционных настроений в обществе. Дело в том, что стремление власти догнать передовые страны было не отражением интересов общества, а желанием одерживать победы в геополитическом соперничестве. Поэтому инициируемые властью преобразования осуществлялись в обратной последовательности: не потребности гражданского общества диктовали власти порядок преобразований, а наоборот, инициатива власти диктовала гражданскому обществу, в каком направлении оно должно меняться и какие его потребности являются приемлемыми. Понятно, что при любых реформах положение власти должно было оставаться незыблемым, и любые преобразования не должны ставить под сомнение существующий строй. Такого рода «догоняющая» модернизация не только требовала колоссальных ресурсов и затрат, но еще и порождала новые, не имевшие ранее места социальные противоречия. Фактически гражданское общество лишалось свободы выбора, так как власть присваивала себе право решать, что для общества хорошо, а что плохо.
Этими особенностями «догоняющей» модернизации был обусловлен тот факт, что в России капитализм сразу же начинается с крупной промышленности, тогда как в Европе эта крупная промышленность была итогом длительного развития. В России крупная промышленность образовалась в результате «революции сверху», как следствие реформистских инициатив правящего класса. Такое «искусственное» образование крупного промышленного капитала привело, с одной стороны, к тому, что класс предпринимателей надолго лишился политической и социальной самостоятельности, а с другой – к разрыву между промышленной и аграрной сферами. Если в Европе такие элементы нового экономического строя, как свободный рынок труда, пролетариат, мелкая промышленность, мелкая торговля, формировались на основе определенных процессов в аграрной сфере (включая и социальное расслоение, влекущее за собой появление беднейших сельских слоев на рынке труда, а более богатых – в сфере мелкой промышленности и торговли), то в России деревня оставалась отсталой и долгое время сохраняла свою архаичную социальную структуру. Эта особенность развития капитализма в России была отмечена и Марксом: «Возникновение сети железных дорог в ведущих странах капитализма поощряло и даже вынуждало государства, в которых капитализм захватывал только незначительный верхний слой общества, к внезапному созданию и расширению их капиталистической надстройки в размерах, совершенно не пропорциональных остову общественного здания, где великое дело производства продолжало осуществляться в унаследованных исстари формах. Не подлежит поэтому ни малейшему сомнению, что в этих государствах создание железных дорог ускорило социальное и политическое размежевание, подобно тому как в более передовых странах оно ускорило последнюю стадию развития, а следовательно, окончательное преобразование капиталистического производства».[6] Таким образом, развитие капитализма в России, создание крупной промышленности и возникновение сети железных дорог вело к социальному расслоению и к обострению противоречий, и вопрос заключался в том, как долго «остов общественного здания» будет в состоянии выдерживать «капиталистическую надстройку».
Ключевым противоречием общественного развития России XIX века, с точки зрения «классического» марксизма, является противоречие аграрной цивилизации, противоречие между крестьянством и землевладельцами, то есть, иными словами, вопрос о земле. Оценка этого противоречия, его роли в грядущей истории России и послужила причиной раскола между Плехановым и Лениным. Для Плеханова борьба крестьян за землю не может быть ключевым содержанием революционной борьбы пролетариата. В соответствии с логикой европейской истории антифеодальная революция совершается не пролетариатом, а буржуазией, и именно такая революция объективно необходима для России. Рабочие могут в ней участвовать, могут даже играть в ней весомую роль, но обязательно в союзе с другими классами, также заинтересованными в антифеодальных преобразованиях. Социалистическая революция, когда рабочий класс освобождает себя, освобождая при этом все общество, – это завершающий этап освободительной борьбы, до которого истории России еще далеко. Поэтому позицию Ленина Плеханов воспринимал как следствие теоретической путаницы, незнания азов марксисткой теории, как «бред сумасшедшего», стоящий в одном ряду с русской классикой на «психиатрическую» тему – «Палатой № 6» Чехова и «Записками титулярного советника А. И. Поприщина» Гоголя.[7]
Напомним, что позиция Ленина строилась на противопоставлении двух путей буржуазного аграрного развития – «прусского» и «американского». Первый путь связывался с преобразованиями, проводимыми «сверху», то есть, без учета интересов масс, тогда как второй имел революционно-демократический характер и мог привести к превращению русского крестьянина в цивилизованного фермера. Причем, если Плеханов и его единомышленники, ссылаясь на классические постулаты марксисткой теории, говорили о необходимости экономической эволюции, постепенных и «естественных» преобразований, то для Ленина тот очевидный факт, что Россия уже движется по «прусскому» пути, а возможность «американского» пути маловероятна, служил основанием для того, что он исключал возможность эволюционных преобразований и настаивал на неизбежности революции. Вопрос для Ленина заключался лишь в том, какой характер примет эта неизбежная революция – будет ли она «городской», основанной на широком демократическом союзе политических сил, выражающих заинтересованность в буржуазно-демократическом развитии России, или же она охватит революционной стихией самые широкие массы, и в таком случае крестьянство неизбежно станет, по крайней мере в количественном отношении, наиболее весомой политической силой, с которой так или иначе будут вынуждены считаться все. Первая революция 1905–1907 годов начиналась как классическая с точки зрения марксистской теории «городская революция». Политические уступки власти частично погасили ее волну, а крестьянские волнения пришлись на 1906–1907 годы, то есть на тот период, когда город включился в инициированные властью демократические процессы, участвовал в выборах в Государственную Думу. Что касается второй и третьей революций, то они проходили уже в таких условиях, когда вовлечение в революционные события самых широких масс было неизбежным. Поэтому, очевидно, неизбежной была и последовавшая за политическим переворотом под знаменем социализма гражданская война. Вынужденной мерой в условиях тотальной разрухи была политика «военного коммунизма», и Ленин, кажется, вполне отдавал себе отчет, что эта временная мера будет восприниматься многими, в том числе и потенциальными союзниками, как генеральная линия новой власти, и, следовательно, социальные противоречия неизбежно будут обостряться.







