
Рори Пауэр
Дикие
WILDER GIRLS
by Rory Power
Напечатано при содействии литературного агентства AJA Anna Jarota Agency.
Все права защищены. Любое воспроизведение, полное или частичное, в том числе на интернет-ресурсах, а также запись в электронной форме для частного или публичного использования возможны только с разрешения правообладателя.
© Марина Давыдова, перевод на русский язык, 2020
© Издание на русском языке, оформление. Popcorn Books, 2020
Copyright © Rory Power 2019
First published in 2019 by Delacorte Press
Jacket art copyright © 2019 by Aykut Aydoğdu
Литературно-художественное издание
Серия REBEL
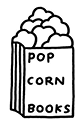
* * *
Посвящается моей маме,
и мне,
и всем нашим версиям,
которые не верили,
что у нас получится
Все, что разное,
странное,
чудное,
пестрое.
Джерард Мэнли Хопкинс[1].«Пестрая красота»
Гетти
Глава 1
Движение. Далеко внизу, в заснеженном лесу. В зарослях среди деревьев. С крыши видно, как изгибаются ветви кустарника, пока что-то направляется в сторону океана.
Судя по размеру, это койот – крупный, мне по плечо. С зубищами, которые ложатся в ладонь, как ножи. Я знаю, потому что однажды нашла один такой в заборе. Я забрала его и спрятала у себя под кроватью.
Последний рывок через кусты – и лес снова замирает. На другом краю плоской кровли Байетт опускает ружье на ограждение. Дорога свободна.
Я свое ружье на всякий случай держу наготове, прижав левый глаз к прицелу. Правый незрячий – ослеп после приступа. Веки слиплись, и под ними что-то растет.
Это происходит с каждой из нас. Мы больны чем-то странным и не знаем почему. Из нас рвутся инородные объекты, мы теряем части тел и отращиваем новые, кожа сходит с нас лоскутами, а потом все вдруг прекращается, как будто болезнь затаилась до лучших времен.
Через прицел я вижу мир, выбеленный полуденным солнцем. Вижу леса, растянувшиеся до самого края острова, и океан за ними. Вижу ощетинившиеся сосны, макушки которых возвышаются над домом. Местами – там, где дубы или березы сбросили листья, – виднеются темные залысины, но бо́льшая часть лесного полога плотно соткана из затвердевших от мороза иголок. Через них пробивается только антенна – толку от нее чуть, потому что сигнала больше нет.
Со стороны дороги раздается крик, и из-за деревьев появляется лодочная смена. Пересечь весь остров и добраться до пирса, куда раньше причаливали паромы, а теперь флот доставляет продовольствие и одежду, способны единицы. Остальные сидят за забором и молятся об их возвращении.
Самая высокая фигура – мисс Уэлч – останавливается у ворот и возится с замком. Наконец ворота распахиваются, и лодочницы, румяные с мороза, вваливаются внутрь. Все трое невредимы и сгибаются под тяжестью банок, мясных консервов и коробок с рафинадом. Уэлч поворачивается, чтобы запереть ворота. Из учителей она была самой молодой, от силы лет на пять старше самых взрослых из нас. Раньше она жила в нашем крыле и смотрела сквозь пальцы на тех, кто возвращался в комнату после отбоя. Теперь она пересчитывает нас каждое утро, чтобы удостовериться, что за ночь никто не умер.
Она машет рукой, отпуская нас, и Байетт машет в ответ. Я отвечаю за ворота. Байетт – за дорогу. Иногда мы меняемся, правда ненадолго, потому что мой глаз не очень хорошо видит вдаль. Но даже так стрелок из меня лучше, чем из доброй половины тех, кто мог бы занять мое место.
Последняя из лодочниц поднимается на крыльцо, и наша смена заканчивается. Разрядить ружья. Сложить патроны в коробку для следующей смены. Сунуть один в карман – на всякий случай.
От плоской кровли скат крыши плавно уходит вниз, с третьего этажа на второй. Мы спускаемся к открытому окну и запрыгиваем внутрь. В юбках и гольфах, которые мы носили раньше, было тяжелее, и какой-то внутренний голос до сих пор напоминает нам не разводить колени слишком широко. Это было давно. Теперь, в рваных джинсах, беспокоиться не о чем.
Байетт забирается в дом следом за мной, оставляя на вытертом подоконнике очередной отпечаток, и перебрасывает через плечо волосы. Прямые, как у меня, светлого каштанового оттенка. Чистые. У нас может не быть хлеба, но шампунь есть всегда.
– Что ты видела? – спрашивает она.
Я пожимаю плечами.
– Ничего.
Завтрак был скудный, и меня потряхивает от голода. Я знаю, что Байетт чувствует то же самое, поэтому мы торопливо спускаемся на первый этаж, в просторный вестибюль с высокими потолками. Покосившиеся, покрытые царапинами столы. Камин. Диваны с высокими жесткими спинками – набивка пошла на растопку. И мы – все, кто остался, шумные и живые.
Когда все началось, нас было сто учениц и двадцать учителей. Вместе мы занимали оба крыла, пристроенные к старому зданию. Теперь нам хватает одного.
Лодочницы вваливаются в вестибюль через парадные двери, сбрасывают мешки на пол, и начинается битва за еду. В основном нам присылают консервы, иногда вяленое мясо. Свежих продуктов почти не бывает, а если что-то и перепадает, этого никогда не хватает на всех, и чаще всего обед состоит из мизерных пайков, которые Уэлч держит в запертой на ключ кладовой и распределяет между нами. Но сегодня поставочный день, лодочная смена вернулась с припасами, и Уэлч с директрисой отступают в сторону, позволяя каждой из нас сразиться за свой обед.
Нам с Байетт сражаться нет нужды. Риз стоит у самой двери и оттаскивает для нас в сторону один из мешков. Будь это кто-то другой, остальные бы возмутились, но у Риз вместо левой руки лапа с острыми чешуйчатыми когтями, и никто не осмеливается возразить.
Она заболела одной из последних. Я думала, что болезнь ее пощадила, что она в безопасности, – а потом началось. Кожа покрылась серебристыми чешуйками, проступившими как будто бы изнутри. То же случилось с другой девочкой из нашего класса. Чешуя начала расползаться по всему телу, охлаждая кровь; однажды утром Риз не проснулась, и тогда мы решили, что ей уже не помочь, отнесли ее наверх и стали ждать, когда она умрет. Но Риз не умерла. Несколько дней она пролежала в лазарете, точно труп, а потом вдруг вернулась как ни в чем не бывало, и ее левая рука, хоть и превратилась в когтистую лапу, все еще принадлежала ей.
Риз вспарывает мешок и пропускает нас с Байетт вперед. Желудок сводит спазмами, во рту скапливается слюна. Что угодно, я согласна на что угодно. Но нам не повезло с мешком. Мыло. Спички. Упаковка шариковых ручек. Коробка патронов. И вдруг внизу, на самом дне, я вижу апельсин – настоящий апельсин с одним-единственным темным пятнышком на кожуре.
Мы бросаемся вперед. Серебряная рука Риз хватает меня за воротник, и я чувствую, как перекатываются под чешуей волны жара, но отталкиваю ее и коленом придавливаю к полу. Потом наваливаюсь на Байетт и зажимаю ей шею локтем. Кто-то из них пинает меня – я не знаю, кто именно. Чей-то кулак бьет меня по затылку, и я кубарем отлетаю к лестнице и с треском прикладываюсь носом о ступеньку. Меня ослепляет вспышка боли. Сквозь боль пробиваются оживленные крики девочек, окруживших нас кольцом.
Кто-то наматывает мои волосы на кулак и дергает изо всех сил. Я изворачиваюсь, впиваюсь зубами в кожу с проступившими на ней венами, и противница взвизгивает. Моя хватка слабеет. Ее – тоже. Мы отползаем друг от друга.
Я трясу головой, избавляясь от залившей глаз крови. Риз лежит посреди лестницы, сжимая в руке апельсин. Она победила.
Глава 2
Мы называем ее «токс», и первые несколько месяцев ее даже пытались вписать в учебный план. История эпидемий вирусных заболеваний западной цивилизации. Корень токс- в насыщенных латинизмами языках. Нормативы фармацевтической деятельности в штате Мэн. Учеба продолжалась, учителя с пятнами крови на одежде рассказывали у доски о предстоящих контрольных так, будто через неделю мы встретимся с ними в том же составе. Это не конец света, говорили они, ваша задача – учиться.
Завтрак в столовой. Математика, английский, французский. Обед, стрельба по мишеням. Физкультура, первая помощь, мисс Уэлч перевязывает раны, директриса делает уколы. Сбор на ужин и отбой до утра, когда станет ясно, кого мы лишились на этот раз. Нет, я не знаю, что с вами, говорит мисс Уэлч. Да, вы поправитесь. Да, скоро вы вернетесь домой.
Долго это не продлилось. Одного за другим токс начала забирать учителей, один за другим срывались уроки. Правила рассыпались, растворялись, оставляя от распорядка голые кости. Но мы продолжаем считать дни и каждое утро высматриваем в небе камеры и прожекторы. На материке о нас помнят, говорит Уэлч. Они пытаются помочь нам с тех пор, как директриса связалась с береговой базой Кэмп-Нэш. Они ищут лекарство. К самой первой из поставок прилагалось уведомление с подписью на фирменном бланке ВМФ.
ОТ: министра военно-морского флота, командира Министерства обороны, сил реагирования на химические и биологические инциденты (СРХБИ), коменданта Кэмп-Нэша, центров по контролю за заболеваниями (ЦКЗ)
КОМУ: Ракстерской школе для девочек, остров Ракстер
ТЕМА: Карантинные меры, рекомендованные ЦКЗ
С настоящего момента в силу вступает карантин, подразумевающий полную изоляцию. В целях безопасности и сохранения условий возникновения инфекции учащимся и персоналу запрещается покидать территорию школы. Выход за пределы территории, осуществленный лицами, не являющимися уполномоченными представителями команды по доставке снабжения (см. ниже), расценивается как нарушение карантина.
Вопрос о прекращении телефонного обслуживания и доступа к интернету ожидает решения; коммуникация должна осуществляться посредством официальных каналов радиосвязи. С настоящего момента информация о ситуации на острове считается засекреченной.
Снабжение осуществляется посредством поставок у западного причала. Дата и время поставки определяются маяком Кэмп-Нэша.
Лечебно-диагностические процедуры находятся в разработке. Центры по контролю за заболеваниями и местные исследовательские лаборатории работают над поиском лекарства. Ожидайте поставку.
Ждать и жить. Мы думали, это будет нетрудно – сидеть за забором, защищающим нас от леса и животных, которые становились всё агрессивнее, – но девочки заражались одна за другой. Приступы сминали их тела так, что они больше не могли дышать, оставляли незаживающие раны, а иногда вызывали горячку, в которой они оборачивались против самих себя. Это происходит и сейчас. С одной только разницей – теперь мы знаем: единственное, что нам остается, – думать о своих.
Риз и Байетт – они мои, а я их. Это за них я молюсь, когда прохожу мимо доски объявлений и касаюсь пальцами пожелтевшего, закрученного на краях уведомления флота, которое до сих пор висит на своем месте. Это наш талисман, напоминание об обещании. Лекарство уже в пути, нужно только подождать.
Риз вонзает серебристый коготь в апельсин и начинает снимать кожуру, и я заставляю себя отвернуться. За свежую еду мы должны сражаться. Она говорит, что только так можно уладить вопрос по справедливости. Никаких подачек из жалости. Она бы не взяла этот апельсин, если бы не считала, что заслужила его.
Стайки девочек, окружив нас водоворотом оживленного смеха, копаются в ворохе вываленной на пол одежды. Флот продолжает присылать одежду, ориентируясь на общее число учащихся. Маленькие рубашки и крошечные туфельки – у нас не осталось никого, кому они были бы впору.
И куртки. Куртки они присылают с завидной регулярностью, с тех пор как траву покрыл первый иней. Токс ударила весной, и летом того года нам хватало форменных юбок и рубашек, но зима, как обычно бывает в штате Мэн, выдалась холодной и долгой. Днем мы жгли костры, а на ночь включали присланные флотом генераторы, пока их не уничтожила снежная буря.
– У тебя кровь, – говорит Байетт. Риз отрывает лоскут ткани от подола рубашки и кидает его мне в лицо. Я прижимаю ткань. В носу что-то хлюпает.
На полуэтаже над вестибюлем раздается шум. Мы дружно поднимаем головы. Это Мона – она на год старше меня, у нее рыжие волосы и широкое лицо с острым подбородком, – прямиком из лазарета, расположенного на третьем этаже. Ее положили туда давным-давно, после прошлогоднего приступа, и мы уже не надеялись увидеть ее снова. Я помню, как в тот день у нее лопалась кожа и исходило паром лицо, как ее несли в лазарет, прикрыв простыней, словно покойницу.
Теперь ее щеки покрывает сетка шрамов, а в волосах видны зачатки сияющего ореола. Совсем как у Риз: под влиянием токс ее пшеничная коса начала светиться, и я настолько привыкла к тому, что это особенность Риз, что мягкий свет, исходящий от волос Моны, вызывает у меня оторопь.
– Привет, – говорит она, слегка пошатываясь, и ее подруги подбегают к ней, размахивая руками и рассыпаясь улыбками, но при этом держатся на почтительном расстоянии. Мы не боимся заразиться – мы все давно заражены в той или иной форме. Мы боимся, что она сломается снова. Что скоро это случится с кем-то из нас. Мы боимся – нам остается только надеяться, что очередной приступ не станет последним.
– Мона, – наперебой щебечут ее подруги, – слава богу, ты поправилась.
Но продолжить разговор они не спешат и вскоре под разными предлогами растворяются в последних лучах солнца, а Мона остается сидеть на диване одна, уставившись на свои коленки. Ей больше нет места среди них. Они привыкли жить без нее.
Я оглядываюсь на Риз и Байетт, пиная скол на одной из ступеней. Сомневаюсь, что когда-нибудь смогу жить без них.
Байетт поднимается на ноги, и ее лоб рассекает неожиданная маленькая складка.
– Подождите здесь, – говорит она и идет к Моне.
С минуту они разговаривают; Байетт наклоняется к уху Моны, и ее сияющие волосы омывают кожу Байетт рыжиной. Потом Байетт выпрямляется, и Мона прижимает большой палец к внутренней стороне ее предплечья. Обе выглядят удивленными. Совсем чуть-чуть, но я все равно замечаю.
– Добрый день, Гетти.
Я поворачиваюсь. Директриса. Черты лица заострились сильнее прежнего. Седые волосы затянуты в тугой пучок, рубашка застегнута до самого подбородка. Вокруг губ пятно – бледно-розовые следы крови, которая сочится у нее изо рта. На них с Уэлч токс действует иначе. Она не убила их, как убила остальных учителей; она не изменила их тела, как меняет наши. Вместо этого она покрыла их языки мокнущими язвами и поселила в конечностях дрожь, которая не ослабевает ни на секунду.
– Добрый день, – отвечаю я. Директриса многое пустила на самотек, но ее манер это не коснулось.
Она кивает в сторону, туда, где Байетт продолжает разговаривать с Моной.
– Как она?
– Мона?
– Байетт.
У Байетт приступов не было с конца лета, а значит, до нового осталось недолго. Они происходят посезонно, каждый следующий хуже предыдущего – до тех пор, пока организм не сдается. Но я даже представить не могу, как что-то может быть хуже ее прошлого приступа. Внешне она почти не изменилась – только горло постоянно болит и позвонки проступают сквозь кожу, – но я помню, как это было. Как ее кровь пропитала старый матрас насквозь и начала просачиваться на пол. Помню, какой потерянной она выглядела, когда на ее позвоночнике разошлась кожа.
– Все хорошо, – говорю я. – Но скоро будет приступ.
– Сочувствую. – Нахмурившись, директриса снова пристально оглядывает Мону и Байетт. – Я не знала, что вы дружите с Моной.
С каких пор ей есть до этого дело?
– Просто иногда общаемся.
Она смотрит на меня так, словно забыла о моем присутствии.
– Замечательно, – говорит она и исчезает в коридоре, ведущем к ее кабинету.
До токс мы видели ее каждый день, но теперь она или проводит время наверху, в лазарете, или запирается у себя в кабинете, приклеившись к радио, по которому ведет переговоры с флотом и ЦКЗ.
Мобильной связи на острове никогда не было – согласно рекламным буклетам, в воспитательных целях, – а городской телефон отключили в первый же день карантина. Ради секретности. Ради контроля над информацией. Но по крайней мере мы могли общаться с родными по радиосвязи и слышали, как плачут наши родители. Потом прекратилось и это. Флот сказал, что произошла утечка информации и пришлось принять меры.
Директриса не пыталась нас утешать. К тому времени в этом уже не было никакого толка.
Я слышу, как захлопывается дверь в ее кабинет и поворачивается замок. К нам возвращается Байетт.
– Что это было? – спрашиваю я. – С Моной?
– Ничего, – говорит она и рывком поднимает Риз на ноги. – Пошли.
Школа занимает большой участок земли на восточной оконечности острова. С трех сторон ее окружает вода, с четвертой ограничивает забор. А за забором начинается лес – те же сосны и ели, что и на территории школы, только толстые, с густо переплетенными ветвями и молодыми стволами, обвитыми вокруг старых. По нашу сторону забора все так же растут аккуратные небольшие деревца; изменились только мы.
Риз приводит нас на край острова, где отполированные ветром скалы жмутся друг к другу, как щитки черепашьего панциря. Мы сидим на камнях, Байетт – в серединке, и промозглый ветер треплет ее длинные распущенные волосы, закрывая лицо. День стоит прохладный, небо ясное, но не голубое, вдали сплошная пустота. За пределами острова темный океан глотает песчаный берег, закручиваясь в волны. На горизонте ни кораблей, ни земли – ни единого намека на внешний мир, в котором все идет своим чередом.
– Как ты себя чувствуешь? – спрашивает Байетт. Два дня назад шов на моем незрячем глазу разошелся. Привет из прошлого, напоминание о том, как мы не понимали, что с нами происходит.
Во время первого моего приступа правый глаз ослеп, а веки срослись, и я думала, что на этом все закончится, пока что-то не начало расти под кожей. Байетт предположила, что это третье веко. Было не больно, но глаз зверски чесался, и я чувствовала, как под сросшимися веками что-то шевелится. Поэтому я попыталась их разделить.
Это было глупое решение. Достаточно взглянуть на шрам, чтобы в этом убедиться. Я мало что помню, но Байетт говорит, что я уронила ружье во время ружейной смены, впилась ногтями в лицо, словно одержимая, и начала раздирать себе веки.
Шрам почти зажил, но время от времени он расходится, и по щеке бежит розовая, водянистая от гноя кровь. Во время дежурства я слишком занята, чтобы на него отвлекаться, но сейчас чувствую под кожей пульс. Возможно, рана воспалилась. Хотя это последнее, о чем нам стоит волноваться.
– Сможешь зашить? – Я стараюсь не выдавать своей тревоги, но Байетт все равно замечает.
– Что, настолько плохо?
– Нет, просто…
– Ты ее хоть промыла?
Риз довольно фыркает.
– А я говорила не оставлять ее открытой.
– Иди сюда, – произносит Байетт. – Я посмотрю.
Я разворачиваюсь и задираю подбородок, а она садится на колени лицом ко мне. Пробегает пальцами вдоль раны, задевая веко. В ответ на прикосновение под кожей что-то дергается.
– Выглядит неприятно, – говорит она и вынимает из кармана иголку с ниткой. Она всегда носит их с собой с тех пор, как шрам зарубцевался в первый раз. Ей почти семнадцать, из нас она самая старшая, и в такие минуты это чувствуется. – Не шевелись.
Игла входит в кожу. Прохладный ветер смягчает боль. Я пытаюсь подмигнуть ей, заставить ее улыбнуться, но она качает головой и хмурится.
– Я сказала, не шевелись, Гетти.
Мы с Байетт сидим друг напротив друга, и она смотрит на меня точно так же, как я на нее, и я в безопасности – в безопасности, потому что она рядом. А потом она втыкает иголку слишком глубоко, и я отшатываюсь, съеживаясь всем телом. Боль ослепляет; она везде. Зрячий глаз застилает пелена слез. Я чувствую, как кровь затекает в ухо.
– О боже, Гетти, ты как?
– Это же просто швы, – говорит Риз.
Она с закрытыми глазами лежит на спине. Ее рубашка задралась, и я вижу бледную полоску кожи, ослепительно яркую даже за туманом слез. Ей никогда не холодно, даже в дни вроде сегодняшнего, когда изо рта вырываются облачка пара.
– Ага, – говорю я. В отличие от моего глаза, серебряная рука не доставляет Риз неудобств, и я с трудом сдерживаюсь, чтобы не огрызнуться. У нас и без того достаточно поводов для ссор. – Давай дальше.
Байетт начинает что-то говорить, но тут со стороны сада доносится крик. Мы оборачиваемся – может, у кого-то начался первый приступ. В Ракстере учатся с шестого класса и до выпуска – по крайней мере учились, так что младшим из нас сейчас по тринадцать лет. Им было одиннадцать, когда все началось, и теперь болезнь наконец добралась и до них.
Но нет, это всего лишь Дара, наша ровесница с перепончатыми пальцами. Она стоит там, где начинаются скалы.
– Стрельба! – кричит она нам. – Мисс Уэлч говорит, пора тренироваться.
– Идем. – Байетт завязывает узелок, поднимается на ноги и протягивает мне руку. – Закончим после ужина.
Уроки стрельбы были у нас и до токс – традиция со времен основания школы, – но тогда они проходили по-другому. Старшеклассницы – и еще Риз, лучше которой на острове не стрелял никто, потому что остров был ее домом, – ходили с мистером Харкером в лес и палили по банкам из-под газировки, которые он выстраивал в ряд на земле. У остальных были уроки по технике безопасности, которые чаще всего отменялись, потому что мистер Харкер вечно опаздывал.
А потом токс забрала мистера Харкера. Забрала стрелковую руку Риз – она больше не может ухватить пальцами спусковой крючок. Стрельба перестала быть развлечением и превратилась в учебную дисциплину, потому что теперь нам нужно уметь убивать. Раз в несколько дней на закате мы по очереди стреляем до тех пор, пока каждая из нас не попадет в центр мишени.
Уэлч говорит, мы должны быть готовы. Готовы защищать себя и друг друга. В первую зиму через забор пробралась лиса – видимо, пролезла между прутьев. Позже девочка из ружейной смены сказала, что та напомнила ей собаку, которая осталась у нее дома. Вот почему она не смогла выстрелить. Вот почему лиса добралась до террасы перед школой. Вот почему она загнала в угол самую младшую из нас и разодрала ей горло.
Мы тренируемся в конюшне на краю острова: ее большие раздвижные двери открываются с обеих сторон, и случайные пули летят в океан. Раньше в ней стояло четыре лошади, но вскоре после прихода токс мы начали замечать, что она проникает в них, как проникла в нас: она выталкивала их кости наружу, прокалывая кожу, растягивала им мышцы, пока они не начинали кричать. Мы вывели их к воде и застрелили. Теперь в денниках пусто, и мы толпимся в них в ожидании своей очереди. Нужно выстрелить в мишень, и, пока не попадешь в яблочко, уйти тебе не позволят.
Почти все огнестрельное оружие мисс Уэлч держит под замком в кладовой вместе с патронами (флот начал присылать их, когда узнал о животных), так что на всех у нас один дробовик и коробка патронов, которые лежат на столе из тонкого листа фанеры, водруженного на деревянные козлы. Конечно, это не ружья, из которых мы стреляем во время ружейной смены, но Уэлч всегда говорит, что, мол, какая разница, и у Риз каждый раз напрягаются желваки.
Я подтягиваюсь на руках, усаживаясь на двери денника, и чувствую, как она раскачивается, когда Байетт запрыгивает ко мне. Риз стоит между нами, прислонившись к двери спиной. Из-за руки ей запретили стрелять, но она все равно приходит сюда каждый раз и молча сверлит мишень глазами.
Сперва все стреляли в алфавитном порядке, но за время токс мы потеряли не только конечности, глаза и пальцы, но и фамилии. Теперь мы стреляем по старшинству. Самые старшие проходят быстро – большинство из них может попасть в цель с нескольких попыток. Джулия и Карсон справляются за два выстрела, потом Лэндри стреляет бесконечно долго, так что я сбиваюсь со счета, а после наступает наш черед. У Байетт уходит три патрона. Достойно, но ее не просто так ставят в ружейную смену со мной. Если не попадет она, попаду я.
Она передает мне дробовик, и я дышу на руки, чтобы вернуть им чувствительность, а потом занимаю ее место, поднимаю дробовик к плечу и прицеливаюсь. Вдохнуть, сосредоточиться, выдохнуть, надавить. Грохот отдается в ушах. Все просто. Это единственное, в чем я лучше Байетт.
– Молодец, Гетти, – говорит Уэлч.
– Молоде-е-ец, Гетти, – протягивает кто-то в толпе и хихикает. Я закатываю левый глаз, кладу дробовик на импровизированный стол и возвращаюсь к деннику, где ждут Риз и Байетт.
Обычно следующей идет Кэт, но тут поднимается легкая возня, раздается ойканье, и кто-то выталкивает на середину конюшни Мону. Она спотыкается, с трудом удерживаясь на ногах, выпрямляется и шарит глазами по нашим лицам в поисках сочувствия. Она его не найдет – жалость мы теперь бережем для себя.
– Можно я пропущу? – спрашивает она, поворачиваясь к Уэлч. Лицо Моны неподвижно, но ее тело выдает напряжение. У нее почти получилось, ей почти удалось отвертеться. Но остальные этого не допустят. Как и Уэлч.
– Боюсь, что нет. – Уэлч качает головой. – Давай.
Мона говорит что-то еще, но так тихо, что ее никто не слышит, и идет к столу. Дробовик уже заряжен. Ей нужно просто прицелиться и выстрелить. Она поднимает дробовик и пристраивает его на сгиб локтя так, будто баюкает куклу.
– Когда будешь готова. – Это Уэлч.
Мона поднимает дробовик и робко кладет палец на спусковой крючок. Мы затаили дыхание. У нее трясутся руки. Каким-то чудом она продолжает направлять дробовик в сторону мишени, но напряжение дает о себе знать.
– Я не могу, – всхлипывает она. – Я не… не могу.
Она опускает дробовик и смотрит в мою сторону.
И тут на шее у нее раскрываются три глубоких разреза, напоминающих жабры. Крови нет. Но с каждым вздохом они пульсируют, и под кожей у нее что-то извивается.
Мона не кричит. Она вообще не издает ни звука. Она просто падает на спину, хватая ртом воздух. Она продолжает глядеть на меня, ее дыхание замедляется. Не в силах отвернуться, я смотрю, как Уэлч подлетает к Моне и падает рядом с ней на колени, нащупывая пульс.
– Отведите ее в спальню, – велит она.
В спальню, а не в лазарет, потому что в лазарет отправляют тех, у кого дела совсем плохи. У Моны бывали приступы и похуже. Да и у остальных тоже.
Из толпы выходят девушки из лодочной смены; у каждой на поясе нож – только им разрешено носить оружие. Такими вещами всегда занимаются они; вот и теперь девушки берут Мону под руки, рывком поднимают ее и ведут к школе.
Поднимается гул, и мы идем было за ними, но Уэлч громко прочищает горло.
– Дамы, – протягивает она так же, как раньше во время вечерней поверки. – Разве я вас отпускала? – Все молчат, и Уэлч поднимает дробовик и передает его первой в очереди девочке. – Мы начнем заново. С самого начала.
Никто не удивлен. Мы давно потеряли способность удивляться. Мы снова выстраиваемся, ждем своей очереди и стреляем, чувствуя, как из дробовика в ладони переходит тепло – тепло Моны.
На ужине все разбредаются кто куда. Обычно мы по крайней мере сидим в одной комнате, но сегодня, получив у Уэлч еду, расходимся: кто в вестибюль, кто на кухню, где в старой дровяной печи догорают последние шторы. В такие дни, когда у кого-то случается очередной приступ, мы рассыпаемся на группы и гадаем, кто станет следующей.
Я сижу у лестницы, подпирая спиной балюстраду. Мы с Байетт и Риз сегодня получили еду последними, когда ничего толкового уже не осталось – только две краюшки батона, склизкие от плесени. Когда я вернулась с ними из кладовой, у Байетт сделался такой вид, будто она вот-вот расплачется, – мы с ней не обедали, потому что апельсин достался Риз в честном поединке, – но, к счастью, Карсон из лодочной смены отдала мне банку просроченного супа. Мы ждем, пока до нас дойдет консервный нож; тем временем Риз пытается вздремнуть на полу, а Байетт, задрав голову, смотрит на дверь, за которой скрывается лестница в лазарет на третьем этаже.
Когда здание только построили, там располагались комнаты прислуги. Узкий коридор, по три комнаты с каждой стороны, наверху плоская кровля, внизу вестибюль с высокими потолками и окнами в два ряда. Попасть наверх можно только по лестнице со второго этажа, запертой за низкой покосившейся дверью.
Я не люблю смотреть на эту дверь, не люблю думать о тех, кто там лежит. Мне не нравится, что там нет места для всех. И еще мне не нравится, что все двери в лазарете запираются снаружи. Что при желании палаты можно превратить в камеры.
Поэтому я смотрю на стеклянные стены столовой в дальнем конце вестибюля. Длинные пустые столы разобрали на растопку, столовое серебро выбросили в океан, чтобы мы не растащили ножи. Раньше это была моя любимая комната. Не в первый день, когда я не нашла себе свободного места, а потом, когда входила утром внутрь и видела, что Байетт заняла мне место. В наш первый год у нее была отдельная комната, и она любила встать пораньше и погулять по территории. Когда я спускалась в столовую, у нее уже была припасена для меня пара тостов. До Ракстера я ела их с маслом, но Байетт научила меня, что с джемом куда вкуснее.
Кэт ловит мой взгляд и машет мне консервным ножом. Я отлепляюсь от балюстрады и пробираюсь к ней мимо четверки девочек, которые разлеглись на полу квадратом, положив головы друг другу на животы, и пытаются друг друга рассмешить.
– Видела, как ты продавила Карсон, – говорит Кэт, когда я подхожу ближе. У нее черные волосы, прямые и тонкие, и темные пытливые глаза. Токс ее не пощадила. Несколько недель она провела в лазарете со связанными руками, потому что иначе раздирала пузырящуюся кожу в клочья. Теперь ее тело покрыто шрамами и белыми отметинами, и каждые несколько месяцев к ним прибавляются кровоточащие волдыри.
Я отвожу взгляд от свежего шрама на ее шее и улыбаюсь.
– Это было нетрудно.
Она передает мне консервный нож, и я прячу его под рубашку на поясе, чтобы никто не стащил его, пока я возвращаюсь к лестнице.
– У вас все нормально? Не мерзнете?
Из теплого на ней только съемная флисовая подкладка с куртки ее подруги Линдси. Когда мы в последний раз делили одежду, им с Линдси не повезло. Ну а одеяло тут можно уберечь, только если ни на секунду не сводить с него глаз.
– Все хорошо, – говорит Кэт. – Спасибо, что спросила. Проверьте, не вспучилась ли крышка у вашей банки. Не хватало нам еще ботулизма.
– Обязательно.
В этом вся Кэт, добрая по-своему. Она наша ровесница, а ее мама служит во флоте, как мой отец. Ракстер и Кэмп-Нэш – единственные населенные пункты на многие мили вокруг, и за долгие годы совместного существования они переплелись так тесно, что в Ракстере выделяют стипендии для детей служащих ВМФ. Только поэтому я здесь. Только поэтому здесь Кэт. В конце каждой четверти мы вместе садились на автобус до аэропорта: она возвращалась на базу в Сан-Диего, а я – в Норфолке. Она никогда не занимала мне место, но, когда я робко пристраивалась рядом, она улыбалась и позволяла мне дремать на своем плече.
Я сижу себе рядом с Байетт, когда у парадной двери поднимается шум. Там собралась компания Лэндри. Всех нас можно разделить на одиннадцать-двенадцать групп – одни побольше, другие поменьше, – и самая большая из них сосредоточена вокруг Лэндри; она на два года старше меня и происходит из древней бостонской семьи, древнее даже семьи Байетт. Она всегда нас недолюбливала – по крайней мере с тех пор, как однажды пожаловалась, что на острове нет парней, а Риз посмотрела на нее отрешенно и сказала: «Зато девчонок завались».




