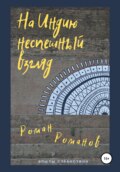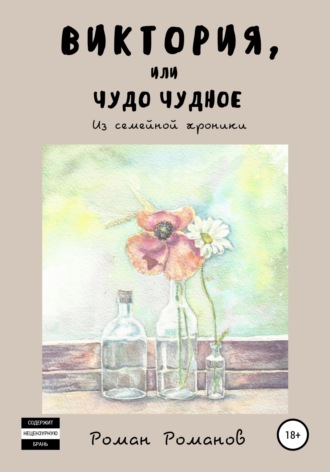
Роман Романов
Виктория, или Чудо чудное. Из семейной хроники
Счастье – это когда ты можешь обмануть жизнь. (Анонимный мудрец)
Пролог
О том, как Вика появилась на свет, я знаю благодаря семейной мифологии – со слов родителей и старших сестер. Родилась она дома, за три месяца до срока, и при этом весила не больше чем курица в советском гастрономе. С такими показателями Викины шансы на выживание стремились к нулю. Но, наверное, она не случайно родилась утром седьмого ноября, когда вся страна отмечала победу социалистической революции – в это время Вика праздновала свою первую личную победу: вопреки обстоятельствам, она просто выжила.
Часть первая. Детство
Лиса Алиса и Кот Базилио
Вика существовала в моем мире как некая данность, нечто само собой разумеющееся: старшая сестра, она всегда была рядом – с первого дня моей жизни, задолго до того, как я научился выделять ее в сознании среди прочих членов семьи. И если две другие сестры, значительно превосходившие нас по возрасту, к моменту моего рождения успели повзрослеть, уехали из родного дома, и я о них знал больше по рассказам родных, то Вика была непреложной частью повседневной реальности, в которой я рос.
Она же во многом и формировала эту реальность: старше на целых пять лет, сестрица пользовалась своим грандиозным жизненным опытом, чтобы воспитывать меня и навязывать собственные представления об окружающей действительности. Впрочем, в детстве я не сильно противился Викиной доминирующей роли: она умела на пустом месте устроить настоящее веселье, с ней никогда не было скучно – а что еще нужно ребенку для полного счастья?
Идеи для наших захватывающих игр мы зачастую черпали из волшебных телепередач, что строго дозированно, по-социалистически скупо выдавал единственный на страну канал Центрального ТВ. Всю неделю ждали как чуда субботний выпуск любимой программы «В гостях у сказки», а по воскресеньям – детскую «Абвгдейку» и взрослую «Утреннюю почту». Если не считать ежевечерних мультиков по будням, эти передачи были, пожалуй, единственным источником, утолявшим нашу жажду чего-то необыкновенного, запредельного и красочного – вопреки черно-белому изображению на экране четвероного телевизора «Горизонт».
Бывало, субботнее утро начинается обожаемым фильмом «Приключения Буратино» – мы сидим неподвижно, уставившись в телевизор, и затаив дыхание следим за развитием сказочных событий. Остальной мир в это время перестает существовать: мать с отцом снуют туда-сюда, суетливо собираются на дачу, но мы их просто не замечаем; пока идет кино, нас не прельстишь ни тертой морковкой с сахаром, ни даже дорогущим пломбиром за десять копеек.
Серия до обидного быстро заканчивается, а душу сотрясает от эмоций и рвет на части от желания тут же воссоздать историю, разыграв ее по ролям. Мы едва можем дождаться, когда черепахи-родители наконец-то упакуют дачные сумки, возьмут ведра с рассадой и умотают на огород. Как только за ними захлопывается дверь, в нашей детской вселенной происходит Большой Взрыв и начинается акт творения.
Воспоминания об играх, вдохновленных просмотром какой-нибудь сказки, неизменно связаны у меня с образом жуткого беспорядка в квартире: бардак всегда сопутствовал всплеску творческой энергии, был третьим действующим лицом в попытках преобразить упорядоченную, тусклую действительность советского детства, превратив ее в яркий балаган. Без хаоса, что на глазах рождался из бытовых вещей, накидок и покрывал, родительской одежды, целых и поломанных игрушек, предметов мебели, трудно представить то магическое очарование, которым вдруг наполнялось наше довольно скучное жилище.
– Ты будешь кот Базилио, а я – лиса Алиса, – говорит Вика, открывая кладовку и доставая наружу весь хлам, что за ненадобностью туда утолкли.
Она вытягивает из кучи старья дырявый болоньевый плащ, своим убожеством наверняка оскорбивший бы даже нищего Базилио, траченный молью материнский вязаный берет, строгий портфель отца из черного дерматина и убитые валяные тапочки с помпонами – всё это барахло кидает мне и велит перевоплощаться в кота. Себе же находит куда более характерные вещи: черное трикотажное платье с отпоротым рукавом, но с розами по подолу, фиолетовую вязаную шаль, всю в затяжках, роскошное шапо из фетра и зеленый зонтик с поломанными спицами. Но главная находка – это облезлый лисий воротник: он сразу же делает образ предельно понятным и реалистичным! Я завидую и злюсь: у меня в костюме нет ни одной детали, которая помогла бы идентифицировать родовую принадлежность персонажа – ни хвоста, ни даже усов.
– Не хнычь, – строго говорит сестра, – у нас будет один хвост на двоих.
Она напяливает свой невообразимо элегантный наряд и сзади просовывает под поясок рыжий воротник. Усевшись на трехколесный велосипед, приказывает мне встать позади и взять ее роскошный хвост, как шлейф. Я тут же забываю свои обиды и с гордостью выполняю поручение: причастность к лисьему хвосту наполняет меня ощущением счастья.
Потом Виктория-Алиса возносит над головой останки зонтика – и мы начинаем шествие по страницам сказки, нарезая круги вокруг гостиной.
– Харчевня Трех Пескарей, – торжественно объявляет сестра, обводя рукой старенький сервант у центральной стены. – Я буду есть вон того зажаренного барашка, и еще вон того чудного гусенка… А тебе что, Базилио?
– Шесть штук самых жирных карасей, – произношу я наизусть слова кота, – и мелкой сырой рыбы на закуску.
– А мне еще парочку голубей на вертеле, – входит в раж прожорливая лиса, – да, пожалуй, немного печеночки…
– А мне, а мне… – произношу я и, понимая, что на мою долю в тексте больше ничего не предусмотрено, быстро добавляю: – Три корочки хлеба!
Тотчас же мне на голову обрушивается зонтик с переломанными ребрами, а сверху раздается гневный вопль Вики:
– Идиот! Про корочки говорит Буратино! Ты всю игру испортил…
Я немедленно багровею лицом, бросаюсь на пол и захожусь в истеричном плаче с завываниями. Захлебываясь, сквозь рыдания ору благим матом:
– Дура проклятая! Сама все испортила! И расцарапала мне голову спицей! До крови! Я все папе расскажу, он тебя посохом отдубасит!
Я уже знаю, как можно манипулировать старшей сестрой: пригрозить, что доложу о ее бесчинствах родителям, а главное, не забыть напомнить про посох. Что это такое, ни один из нас ведать не ведает, но, когда рассерженный папенька произносит с расстановкой: «Ну погодите, вот я сейчас посох возьму!..», наши детские сердца преисполняются священным ужасом и мы с визгом забиваемся под двуспальную родительскую кровать – в дальний угол, куда не доберется грозное оружие, в нашем воображении похожее на тяжелую отцовскую ручку с шипастой головкой из металла.
Вот и сейчас при упоминании посоховой расправы Вика тут же сменяет гнев на милость и – о, хитрая лиса Алиса! – говорит елейным голосом:
– Ну, Ромашильдочка, никому ничего не надо рассказывать. Давай я гляну, что там у тебя с головой – правда, что ли, немного поцарапала?
Я постепенно затихаю; шмыгая носом, встаю с пола и из вредности продолжаю обиженно оттопыривать нижнюю губу – пусть не думает, что меня так просто можно разжалобить!
Вика оглядывает мою черепушку и говорит слегка виноватым голосом:
– Ну, махонькая царапина только, никакой крови нет… Ты же не будешь про какую-то там царапинку родителям говорить?
– Ладно, не буду, – великодушно обещаю я, но тут же непререкаемым тоном заявляю: – Но только сейчас мы будем играть в концерт! – Теперь, когда сестра передо мной провинилась, я могу диктовать свои условия.
– Хорошо, – легко соглашается Вика. – Что будем петь – «Веселых ребят»? «Папа, подари мне куклу»?
– Не-а, не могу, у меня же нет шевелящихся брюк, – говорю со вздохом, подразумевая роскошные брюки-клеш, какие в то время непременно носили исполнители всех ВИА. – Я лучше буду Софией Ротару!
Стремглав несусь в родительскую спальню, срываю с пирамиды подушек белые капроновые накидушки и сооружаю себе пышное платье, как у певицы в программе «Песня года». В это время Вика создает образ Розы Рымбаевой: из фиолетовой шали с сотней затяжек делает юбку, завязав ее на боку, надевает тяжелые белые бусы и достает из шкафа мамины лакированные туфли на выход. Трогать их Вике категорически запрещается, так же как мне – брать отцовские «бриллиантовые» запонки с большими переливчатыми стекляшками.
Вика снова усаживается в седло велосипеда и гордо крутит педали, то и дело теряя обувь, которая ей велика размеров на восемь. Это не смущает юную «Рымбаеву»: она ездит по комнате и громко распевает о том, что, дескать, любовь ее нечаянно настигла и вся планета распахнулась перед ней.
С энтузиазмом отыграв концерт, мы в финале двадцать семь раз исполняем на бис припев популярного шлягера «Куба далека – Куба рядом», аккомпанируя себе вместо гитар на ракетках для бадминтона. Горланим песню с неподдельным ликованием, какое, наверное, возможно лишь в глубоком детстве. Как пить дать, в тот день мы своим ором довели всех соседей до нервного припадка.
За полчаса до прихода родителей срочно начинаем уборку территории. Упихиваем весь хлам обратно в черную дыру кладовки, и игровая Вселенная бесследно исчезает до нового Большого Взрыва.
– Ты же ведь не скажешь маме про туфли? – уточняет Вика, пристально глядя мне в глаза: знает, что в случае раскрытия тайны ее ждет суровый нагоняй.
– Ну конечно нет! – с честным лицом обещаю я, даже не отводя взгляда. – Ябедничать нехорошо!
Разумеется, едва папенька с маменькой переступают порог дома, я первым делом сдаю Вику со всеми потрохами. Догадываюсь, что на следующий день меня настигнет жестокое возмездие: скорее всего, будут бить головой об пол и обзывать непотребными словами. Но это завтра, а сегодня я сполна испытаю сладость тайного нашептывания и уличения сестры в дурных поступках – пусть уже родители сделают ей внушение, а то что-то много стала себе позволять!..
Разбор полетов
Время от времени родители в воспитательных целях устраивали Виктории промывку мозгов – для этого в семье была введена особая процедура, которая и называлась «делать внушение». Уверяю вас, ничего общего с гипнотерапией и суггестивными методами воздействия она не имела – больше напоминала прямую психологическую атаку на неокрепшее детское сознание.
Ее сажали на стул перед диваном, где находились представители «святой инквизиции» (отец, мать и ваш покорный слуга), и начинали «разбор полетов». Забиваясь в угол, я старался полностью копировать отца с его озабоченным выражением лица, с руками, тяжело лежащими на коленях, непроизвольно дергающейся ногой (последствие какого-то нервного заболевания) – и реально превращался в маленького старичка. В меня словно вселялся дух молчаливого осуждения: сжав губы, я смотрел на Вику с грустным порицанием – мол, что же ты творишь, сестра? И если родители давили на нее словом, то я, маленький монстр, делал это при помощи выразительного взгляда.
Долгая процедура внушения в основном состояла из стандартного набора нравоучительных монологов и призывов делать то, что положено нормальному человеку, а не что первое взбредет в голову. Непредсказуемость же и нелепость Викиных поступков была просто притчей во языцех – рассказы о ее нездоровых чудачествах прочно вошли в семейные хроники.
Вот, к примеру, история, которая произошла еще до моего рождения (Вике тогда было около четырех) – родители даже спустя годы вспоминали ее с ужасом и негодованием. Как-то поздней весной пошли с малюткой поиграть во дворе, в песочнице, и оставили на три минуты одну: надо было за чем-то сбегать домой. Когда же снова вышли на улицу, той уже не было ни в песочнице, ни перед домом, ни вообще во дворе – словно в воду канула. Что тут началось! Обезумев от беспокойства и полные самых дурных предчувствий, мама с папой начали метаться по окрестностям, выспрашивать у людей, не видел ли кто девочку с бантиком и ведерком в руках, – все безрезультатно. Когда уже хотели бежать в милицию с заявлением о пропаже, догадались спуститься на Амурский бульвар – и что бы вы думали: Вика совершенно спокойно стояла у клумбы, рвала росшие по бордюру одуванчики и наполняла ими ведерко.
«Ну вот как можно было никому ничего не сказать и уйти аж на бульвар?! Как можно было догадаться без взрослых перейти дорогу с машинами?!» – спустя десятилетия возмущенно восклицали родители, отказываясь понимать мотивы столь чудовищного поступка: с их точки зрения, подобное поведение четырехлетнего ребенка было продиктовано непростительным эгоизмом.
Не имело смысла доказывать, что Вика могла это сделать без всякого злого умысла, просто внезапно захотела собрать букет цветов, что спонтанность – это так естественно для малышей. Всем адвокатам детской самостоятельности они заявляли: дитя имеет право делать лишь то, что не нарушает покой взрослых и не выводит их нервную систему из равновесия. Все остальные варианты – просто ложь, пиздёжь и провокация.
С тех самых пор Вика время от времени чудила. Один раз изрезала новое материнское платье, чтобы сшить пару костюмчиков для пластмассового пупса. Когда маменька увидела это безобразие, ее чуть кондрат не хватил; сгоряча она забыла похвалить дочь за стремление к рукоделию, сказать, что в будущем та может стать первоклассным модельером – зато наверняка произнесла много других слов, неправильных с точки зрения педагогической психологии.
В другой раз, по рассказам отца, Виктория с подругами пошла на улицу христославить – что это такое, для меня по сей день загадка, но, судя по всему, нечто ужасно постыдное: девочки вроде бы как выпрашивали у прохожих денег на мороженое или кино. Доброжелательные соседи застали Вику за этим занятием и тут же доложили родителям, а те чуть не умерли со стыда: вот ведь что теперь люди подумают об их приличном семействе!
Ах, конечно, родители прекрасно понимали, почему так происходит с их непутевой дочерью: когда Вика родилась, пришлось вливать в нее литры чужой крови, и они уже тогда опасались, что из-за этой поганой крови ребенок станет полудурью, – увы, их мрачные предчувствия подтвердились. Мама с папой искренне пытались помочь Вике превратиться из полудури в нормальную девицу, поэтому с непоколебимым упорством читали ей нотации и делали внушение. Правда, толку от этих методов не было никакого: Вика молча слушала нравоучения, глядя куда-то в сторону, и, казалось, даже не пыталась вникнуть в суть правильных родительских слов – лишь вздыхала с облегчением, когда экзекуция заканчивалась, и спешила уйти к себе в комнату.
С возрастом ее иммунитет к нотациям лишь возрастал – юная Виктория сделалась тотально невосприимчива к осточертевшим родительским поучениям. Отца это бесило до глубины души, и он любил восклицать в сердцах: «Нет, ну не идиотка ли! Ей ссы в глаза – она скажет: божья роса!»
Бывало, конечно, что что-то щелкнет в потемках Викиного сознания, и она начинает тихонько плакать – то ли от жалости к себе, то ли по какой другой причине, – но гораздо чаще сестра надевала удобную броню непроницаемости, отгораживаясь от досадных попыток родителей изменить ее несовершенный способ существования. Эта невидимая броня стала второй Викиной натурой, помогая переживать моменты, когда ее били в прямом и переносном смысле, плевали в лицо, когда жизнь немилосердно окунала ее мордой в грязь.