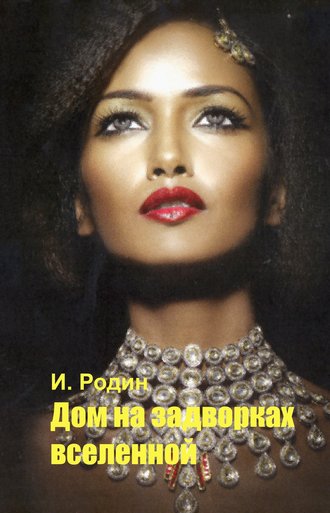
И. О. Родин
Дом на задворках вселенной
2
Лампа на столе горела всю ночь, наверное, забыл выключить. На улице густела тьма, и окна в домах не зажглись. Видимо, было где-то часа четыре утра. Очнулся я внезапно, будто от толчка. Во дворе выла собака. Вой был хриплым и срывающимся, как звук плохо натянутой струны. Гулко отдаваясь о стены домов, он разносился далеко в ночи.
Я лежал поверх одеяла в неудобной позе, и у меня затекла рука. В комнате было душно и слабо пахло табаком.
«Ночь», – машинально отметил я и резко сел на кровати, но тут же застыл, чтобы унять головокружение и подкатившую к горлу тошноту.
Сейчас что-то снилось, но что именно, я не мог вспомнить. Знал лишь, что это было что-то очень страшное и отвратительное. Настолько, что заставило меня проснуться. Некоторое время я неподвижно сидел на кровати – ждал, пока уляжется круговерть в голове. Наконец, с трудом поднявшись, прошел в ванную.
Свет лампочки, казавшейся слишком яркой, слепил. В глазах рябило.
Я сел на край ванны. Сердце, которое неслось сумасшедшим галопом с того самого момента, когда я встал с постели, теперь, казалось, вздрагивало где-то в животе, с натугой отдаваясь четкими густыми ударами в барабанных перепонках.
В голове навязчиво ворочались безобразные обрывки предыдущего вечера. Какой-то тип с полуголой очкастой девицей в кресле, ерзанье и шепот на кровати в спальне, нестерпимый запах вермута (наверное, где-то разлили и забыли вытереть), душные и прокуренные до одурения комнаты…
Отчего-то перед глазами навязчиво вертелся серый пудель: кто-то из вчерашних гостей приперся с собакой, и зверюга надоедала всем до тех пор, пока кто-то не вышвырнул ее на лестничную клетку.
«Интересно, это не она выла во дворе?» – подумал я, но тут же понял, что это полный бред.
Чтобы избавиться от всех этих видений, я открыл кран и сунул голову под воду.
Внезапно мне начало казаться, что всего окружающего просто нет и то, что происходит, – лишь сон, что сейчас я проснусь, туман рассеется, и предметы приобретут наконец четкие, реальные контуры.
Пол ванной начал медленно наклоняться, и я подумал, что если Северный полюс – верх, то, находясь в Москве, я должен стоять на полу с уклоном примерно в сорок пять градусов, и, стало быть, все правильно. Усмехнувшись такому неожиданному умозаключению, и поняв, что «проснуться», очевидно, не удалось, я вошел в кухню и принялся пить воду из чайника.
За окном в черноте как-то лениво и равномерно падал снег, так что в конце концов, глядя на него, начинало казаться, что это не он летит, а ты воспаряешь вверх, в бархатистое темное небо…
В комнате по-прежнему царил беспорядок. Закутавшись в одеяло, я придвинул кресло к журнальному столику и сел. В пачке оставалось еще две сигареты, и я закурил.
Все предметы снова отодвинулись и сделались неестественно маленькими, как если бы кто-то вдруг перевернул перед тобой бинокль другой стороной.
Наверху, у соседей, раздавались голоса. Поочередно – мужской и женский. Опять ругались. Эти приглушенные, еле слышные звуки отчего-то раздражали. Я вспомнил, что несколько дней назад встретился с ним, соседом. Вид у него был тогда помятый и несчастный что ли. Небритый. Говорили, от него ушла жена. Значит, вернулась теперь, если ругаются. Даже ночью. Я с ним тогда нарочно не поздоровался. Не знаю почему, но прошел мимо, сделал вид, что не заметил. А он заметил и смотрел на меня. К тому же пристально как-то. Я даже разозлился. Какого черта надо? И чего, спрашивается, пристал? Вообще-то, если честно, я его недолюбливал: взгляд у него постоянно виноватый, будто все время извиниться за что-то хочет. Нерешительный такой. Через это, наверное, и жена его пилит. Но все равно стало гадко, что тогда с ним не поздоровался.
Через некоторое время голоса смолкли, и воцарилась тишина. Будто голову ватой обложили. Или как если бы из-под стеклянного колпака выкачали воздух и пытались потом что-то сказать. Только ничего не выходит: не слышно. Опыт еще такой был. Под стеклянный колпак сажают мышь, засекают время и начинают смотреть, что получится. Помню, мы даже делали такой. Одна мышь задохнулась, а другая нет: мы к ней поставили цветок в горшке, поэтому она и выжила. Мы записали вывод в тетради, а ту, первую, потом выбросили в мусоропровод. Я выбросил, отняв ее у какого-то придурка, который ходил с ней, держа за хвост, и пугал девиц, суя им под нос.
Я подошел к окну. Снег в свете фонарей, казавшихся через оконное стекло звездами с длинными острыми лучами, отливал темно-синим и был неподвижен. Где-то вдалеке, в лабиринте домов, светилось два или три окна. Несколько раз оттуда, из темноты, делаясь то тише, то громче, доносился голос, горланящий песню. В небе, не мигая, застыли звезды, как брызги волн внезапно оледеневшего моря. Трещал оконным стеклом ветер, гоняя по небу клочья облаков.
Я почему-то вспомнил, как у деда в деревне жил паук. Такой здоровый черный паук. В чулане. Там почти всегда было темно. А паук сплел себе огромную паутину, на которой неподвижно висел, пока в его сеть не попадалась какая-нибудь добыча. Дед его время от времени подкармливал. Раз в неделю или две дед смахивал большую часть паутины веником, чтобы пауку было чем заниматься. И он снова плел, а в промежутках висел где-нибудь в самом темном углу и ждал, не изменится ли под лапами натяжение нитей, возвещая, что в сети попалась добыча. Чулан был старый, и летом в нем было пыльно и душно. Осенью там всегда стояла сырость и пахло гнилыми досками. А паук все ткал паутину и висел, поджидая того, кто попадется в его сеть. Потому что пауки не чувствуют запаха. Им на это наплевать.
Мне было тогда шесть лет, и я страшно боялся этого паука. В чулане всегда было темно, и когда я не слушался, меня пугали, что запрут в чулан и паук съест меня. Один раз я видел, как он расправился с мухой, попавшей к нему в сеть. Мне тогда еще показалось, что он смотрит на меня. Я сказал об этом деду, но тот ответил, что этого не может быть, так как паук слепой, и что вообще все пауки слепые. Может быть.
Когда дед умер, бабка перебралась к нам, а дом снесли: очень уж он был старый.
На похороны меня не брали, так как боялись, что я испугаюсь покойника.
Помню после, когда в дом вдруг пришло много незнакомых людей. Они долго о чем-то говорили, потом ели и пили. Мать тогда сказала, что это поминки. Мне очень понравилось это слово: оно почему-то напоминало мне картофельное пюре, и я на разные лады повторял его.
Потом я вдруг вспомнил о пауке. Он был, конечно, в чулане.
Незаметно взяв со стола ломоть хлеба, я сполз со скамьи и, пробравшись среди частокола ног под столом, пошел к чулану. Но чулан был закрыт.
Я посмотрел в замочную скважину – там была пустота.
«Слушай, – сказал я тогда ему, – не грусти. У нас поминки, и всем весело. Я тебе принес поесть. Пусть у тебя тоже будут поминки. Ты ведь меня не съешь, потому что я большой, а ты маленький, и я не помещусь у тебя в животе. Они это просто так говорили, чтобы я слушался… На, ешь…» – говорил я ему и, кроша хлеб, совал в замочную скважину…
Потом дом снесли. Мне было очень интересно, куда делся паук, и я несколько раз спрашивал маму об этом. Но она говорила, что ей некогда заниматься глупостями и что лучше бы я учил буквы и вообще готовился к поступлению в школу.
А о пауке я так ничего и не узнал. «Наверное, – решил я тогда, – он ушел туда, где много пауков. Таких же, как он. И теперь они все вместе плетут свои сети, и ему не так грустно и одиноко, как в чулане».
А от дома ничего не осталось. На его месте построили птицеферму.
Странно, почему именно это мне вдруг вспомнилось? Почему паук? Вот ведь тоже мерзость какая!
Я прислушался. В туалете тихо шумела вода, мерно отбивали ход времени часы.
Встав, я пошел в кухню, опять принялся пить воду из чайника.
Внезапно я понял, почему мне на ум пришел этот паук. Я вспомнил, что мне снилось. Вся картина вдруг снова отчетливо предстала передо мной.
Я сижу в кабаке. Самый настоящий притон. Свет режет глаза. Кругом дым и смрад. У сцены мельтешат какие-то разухабистые девицы с пышными формами, но почему-то без лиц. Хрипит музыка негром на саксофоне, шныряют подозрительные личности разного вида. Вокруг все жрут и пьют. Отовсюду лезут перекошенные смехом рожи, но отчего-то без звука. Один толстый перегнулся через стол и ну лапает безликую девицу. Той приятно, и она хихикает. Руки у него мягкие и липкие, а вместо головы я вдруг увидел какой-то неправдоподобно огромный губастый лоснящийся рот. Грудастые девки заводят вокруг него хороводы, тот хохочет и хлопает потными и липкими руками их по задницам.
В углу одиноко и страшно. Вдруг появляется этот потный с липкими руками, в которых держит поднос. Оказывается, официант. Он улыбается, потом ставит на стол огромную лохань с едой и уходит.
– Это мне? – кричу я ему вслед, но он только смеется.
Двери открыты. На улице идет дождь, а на пороге стоит Сосед. Он бледный и, как всегда, усталый. Наверное, от него снова ушла жена. Он подходит к столу, где сидит толстый и липкий с девками, и спрашивает:
– Вы не видели мою запонку?
Те в ответ разражаются беззвучным гнусным смехом. Сосед опускается перед ними на четвереньки и начинает, ползая по грязному, заплеванному полу, искать запонку. Он плачет. Все на него подозрительно косятся и стараются как можно скорее съесть то, что стоит перед ними. Сосед, всхлипывая, медленно приближается ко мне.
Но нет! Меня не проведешь! Почему это именно я должен делиться с Соседом? Только лишь потому, что он мой сосед? Тут я замечаю, что Сосед как-то очень внимательно и пронизывающе смотрит на меня. Точно! Так я и знал! Я начинаю быстро набивать рот съестным из лоханки. В следующий момент Сосед вдруг куда-то исчез, и я услышал голос липкого:
– Пожалте-с в номер.
– Но я же еще не съел, – отвечаю я, но встаю и иду.
Коридор длинный и гулкий. В нем множество дверей, и я не знаю, какая из них моя. Я убыстряю шаг, а коридор все не кончается. Я перехожу на бег, мимо меня проносятся двери, и вдруг у меня возникает мысль, что это вообще не мой этаж. Какой же это этаж? Этого я тоже не знаю, потому что поднимался сюда на лифте… Но где-то наверняка есть выход! Только надо его найти.
Наконец я вбегаю в какую-то дверь.
Там темно и пахнет гнилыми досками. Впереди висит паутина, и в ней колышется что-то большое, черное и страшное. Паук! Тот самый, из чулана. Сзади раздается хихиканье. Я оборачиваюсь. В дверь, приоткрыв ее, просунулся толстый и липкий и злорадно хихикает. Боже! Как я сразу не догадался!
Дверь сзади захлопывается.
– Ты ведь не съешь меня, – начинаю говорить я пауку, вспоминая, что говорил тогда. – Не съешь…
Он медленно приближается и начинает увеличиваться в размерах.
– Ты маленький, а я большой… Я тебя не боюсь! – кричу я, цепенея от ужаса и чувствуя, что он об этом знает.
Паук начинает обвивать мое тело лохматыми лапами, потом разражается хохотом того липкого, из кабака…
Я проснулся.
Да, все было так. Теперь я вспомнил. Главное – вспомнить. Вспомнить и понять до конца. Хотя, кто знает, возможно, да и нужно ли до конца все понимать.
Затушив сигарету, я лег в постель и через несколько минут погрузился в глубокий сон без сновидений, так ничем и не прервавшийся до утра.
3
Серый хмурый зимний день приближался к концу.
Сумерки медленно сгущались, окутывая темной пеленой небо, заляпанное, как страница в тетради школьника, черными кляксами туч. И хотя было довольно пасмурно, там, вверху, сквозь пока светлые облачные разрывы, уже начинали проглядывать холодные бледные звезды. Постепенно становясь все ярче, они как бы медленно прорастали среди продолжавшего темнеть неба, а Венера, этот первый гонец ночи, уже сияла над горизонтом во всем своем великолепии, то стыдливо прячась за черную траурную сеть облаков, то выглядывая из-за нее в первозданной ослепительной наготе, так, впрочем, ни на что и не решаясь, будто тайная скорбь о ком-то не давала ей покоя. Вслед за ней появилось еще несколько царственных особ звездного мира, а потом, как изображение на фотографической бумаге, целыми россыпями стала возникать, суетясь и толкаясь, всевозможная звездная мелочь, образуя посреди неба целый шлейф призрачного серебристого света.
Где-то впереди, зажатая между домами, болталась, будто выжатый лимон в стакане чая, обрюзгшая желтая луна. Ее диск был полным и ярким, а по его поверхности были разлиты серые пятна, что придавало ему чрезвычайное сходство с лицом больного оспой. Изредка на бока странного небесного цитруса, окутанного, словно одеялом, серебристым ореолом света, набегала неизвестно кем сотканная и пущенная по ветру серая паутина, и тогда казалось, что этот висящий на новогодней елке шар тоже движется. Как если бы дерево, спрятанное за домами, куда-то несли, выставив из-за крыш только его верхушку.
Хотя, когда облака рассеивались, очевидным становилось совершено обратное. Круг луны неподвижно застывал в небе, будто головка сыра, величественно покоящаяся на плоском блюде крыш соседних домов. И постепенно среди опустившейся на все атмосфере мрачного безмолвия и бездействия создавалось ощущение, что чей-то чужой взгляд, брошенный сверху, рассеянно скользит по рассыпанному внизу натюрморту, до которого, впрочем, ни ему, ни кому-либо еще в этой вышине не было никакого дела.
Некоторое время спустя набегавшие облака вновь создавали иллюзию движения, и лицо больного оспой принималось гримасничать, будто стараясь унять нестерпимый зуд в болячках…
Внизу на много километров вокруг раскинулся город, который теперь, подобно гигантской утомленной рептилии, устраивался на ночлег, медленно начиная отдавать тепло, накопленное за день. С наступлением темноты все постепенно угасало, и в суете, обманчивом оживлении час пика уже слышалось сонное бормотание и размеренное дыхание всего огромного организма, расслабленные мышцы которого все еще по инерции продолжали подрагивать…
Над ним кружился бестолковый хоровод из звезд и облаков, приклеенный горловиной своей гигантской воронки к Полярной звезде. Как будто кому-то вдруг пришло в голову поболтать ложечкой в кофейной чашке.
Было холодно.
Я стоял у витрины магазина и разглядывал через стекло выставленный в ней манекен. Манекен был новый и блестел не хуже, чем ботинки у него на ногах. Он был в костюме и шляпе, а спереди болтался ценник. Мне еще пришло в голову, что если бы манекен был живым, – ведь есть же за границей живые манекены, – то ему пришлось бы сейчас не сладко в костюмчике и летних штиблетах, надетых на тонкий носок.
Судя по всему, часы подходили к шести, и я вдруг вспомнил, что сегодня еще не обедал. В желудке было пусто и как-то противно. Приписав это результатам курения натощак, я выбросил сигарету и постарался вспомнить, где поблизости можно чего-нибудь перехватить. Однако в голове все путалось. Казалось, мысли затеяли игру в чехарду и теперь по очереди перепрыгивают друг через друга, то замедляя темп скачки, то убыстряя его. Продолжая это крайне непонятное развлечение, они постепенно перескочили и вовсе на какой-то посторонний предмет, и я забыл, с чего начал.
Пластмассовый манекен по-прежнему глупо улыбался из витрины прохожим. Теперь я заметил, что глаза его были прорисованы слишком ярко, и от этого он казался подозрительно женоподобным.
Стоять становилось холодно, и, сказав сладким голоском «пока, мужчинка», я подмигнул манекену и двинулся вниз по улице.
Вскоре «Маяковская» осталась позади, затерявшись среди дороги огней и названий. Шел я медленно, и на меня то и дело наталкивались люди, куда-то, видимо, очень спешившие.
Мысли продолжали свою странную игру, а в последние минуты три-четыре в голове настойчиво звучал мотив слышанной когда-то песенки, неизвестно для чего теперь выплывшей из памяти. Всего две строчки, которые, как звук испортившейся шарманки, возобновлялись, едва дойдя до конца:
«Без меня тебе, любимый мой,
Земля мала, как остров,
Без меня тебе, любимый мой,
Лететь с одним крылом…»
Причем вместо «без меня тебе» получалось «без тебя мене», хотя так сказать, конечно, нельзя.
«Что это за „мене“ такое?» – наверное, в сотый раз подумал я и тут же поймал себя на том, что опять мысленно повторяю мотив, пытаясь вместо этого чудовищного «мене» подставить то, что нужно.
Вскоре из-за домов показался бронзовый Пушкин, а немного позже и кинотеатр за ним. Рядом, из метро, как патока, пролитая на землю, толчками вытекала вязкая людская масса, влекомая тысячами ног неизвестно куда и зачем.
Дурацкая мелодия продолжала крутиться в голове. Попытки забить навязчивый обрывок куплета другими такими же обрывками ни к чему не привели, и, чтобы хоть как-то избавиться от него, я принялся перебирать в памяти эпизоды теперь уже завершающегося дня.
Надо признать, день прошел совершенно бездарно. Утро я провел слоняясь по квартире в поисках какого-нибудь занятия. С того времени, как мать с отчимом торжественно отбыли во Францию, минуло пять дней, и я постепенно обвыкся один в трехкомнатной квартире. Промаявшись бездельем часов до двух, я вдруг случайно отыскал свою старую записную книжку. Она была сильно потрепана и недосчитывала нескольких страничек. Открыв ее с самого начала, я принялся по алфавиту обзванивать знакомых девиц, тяготясь мыслью, что если хотя бы одна из них изъявит желание со мной встретиться, то придется куда-то ехать и в течение целого вечера валять перед ней дурака, тщетно потом сожалея о потраченном впустую времени. Однако большинства из них не было дома и дозвониться удалось только трем. Но и те собирались куда-то идти и говорили, изображая сожаление по этому поводу, что уже обещали и отказаться никак не могут.
Помню, мне все еще не давала покоя какая-то Левина Марина: я никак не мог вспомнить, кто это такая. Я даже набрал ее номер, но на другом конце провода никто не подходил. Дождавшись седьмого по счету гудка, я положил трубку.
Прослонявшись по квартире где-то еще полчаса, я оделся и вышел из дома. Морозный воздух немного освежил, и настроение как будто улучшилось.
Дойдя до метро, я спустился вниз и доехал до «Библиотеки». Где-то с час болтался на Арбате, потом зашел в «Букинист» и довольно долго проторчал там, изучая полки с литературой. Денег оставалось мало, и я, сам не зная зачем, купил вдруг какую-то совершенно идиотскую и ненужную мне книгу. Что-то об африканских цивилизациях южнее Сахары. Как будто действительно собирался их изучать.
Когда я вышел из магазина, уже начинало темнеть. Арбат с его фонариками поплыл перед глазами, создавая впечатление чего-то игрушечного и ненастоящего.
Книга мешала, и я то и дело перекладывал ее из одной руки в другую, пока не додумался сунуть за отворот пальто. С Арбата я добрался до «Маяковки», а потом и до «Пушкинской»…
Выскальзывающая из-за отворота книга вернула меня от воспоминаний к реальности. «И на кой черт я ее купил?» – наверное, в двадцатый раз подумал я.
Бесцельное шатание по городу порядком надоело. Близился вечер, холод ощутимо усилился, и стали мерзнуть ноги. Закутавшись поплотнее в воротник, как если бы это действительно могло чем-то помочь, я продолжил путь.
Постепенно народа становилось все больше. Час пик набирал силу. Вокруг в каком-то нелепом хороводе, будто маски на новогоднем карнавале, кружились люди. Фонари горели уже давно, и поэтому было не слишком заметно, как небо постепенно из серого сделалось черным, приобретя в то же время легкий красноватый оттенок.
Назойливый куплет снова всплыл откуда-то из глубин подсознания и заплясал на поверхности огромным бакеном, поворачиваясь в такт шагам то одной, то другой стороной, на первой из которых было огромными буквами начертано «тебе», а на второй – «мене».
Выбравшись из толпы, я сел на одну из скамеек в сквере.
Мотивчик вроде на некоторое время отстал, но вместо него вдруг появилась Левина Марина, и я, чтобы хоть как-то отделаться от этого неизвестно кому принадлежащего имени, принялся листать книгу, достав ее из-за отворота пальто.
Через некоторое время пошел снег, и пара белых крупинок тихо упала на страницу. Несколько секунд они лежали на пестрой фотографии, изображающей папуаса, охотящегося на зебр, потом растаяли, оставив после себя едва заметные темные пятна.
Я поднял голову. Снег был редкий, но, набирая силу, становился гуще, – до тех пор, пока не принялся сыпать крупными косматыми хлопьями. У вершин фонарей он вспыхивал снопом желтых искр, после чего, постепенно угасая, неторопливо опускался на землю. Снежная мгла заполнила все вокруг, смягчив, казалось, даже холодный колючий воздух своим невесомым прозрачным пухом. Звуки шагов торопливо идущих мимо прохожих стали тише, приглушенные упругим, точно поролон, ковром.
Внезапно я вспомнил манекен, и ощущение бутафорности всего окружающего на какое-то мгновение стало столь сильным, как если бы вокруг действительно были картонные декорации или рисунки.
Световое табло над крышей «Известий», призывавшее пользоваться услугами отделений связи, которые могут доставить письмо или ценный груз в любую точку земного шара, за снежной пеленой выглядело неясно, словно на него вдруг набросили белую сеть.
Справа, рядом со мной на лавке, сидели какие-то две девицы. Поначалу они некоторое время искоса поглядывали в мою сторону: я чувствовал это, хотя и избегал на них смотреть. Некоторое время их ужимки забавляли, но минут через пять начали ужасно раздражать: мысли отвлекались, и я не в состоянии был сосредоточиться. Как в метро, когда какой-нибудь незнакомый тип вдруг начинает через плечо заглядывать в книгу, которую ты читаешь.
Я выбросил окурок и принялся смотреть в другую сторону.
За памятником сплошной чередой электрических бликов по-прежнему мелькало шоссе.
Отчего-то вдруг сделалось стыдно того, что, учась классе в шестом, стащил у одноклассницы ручку. Причем стыд за это давно совершенное и столь же давно забытое преступление был таким, словно это случилось вчера.
Сквозь туманную ткань этого странного воспоминания постепенно опять пробился знакомый куплет с его «тебе-мене», беспрестанно повторяющимися двумя строчками и дурацким проигрышем. Я тогда еще подумал, что это хорошо, что нет такого аппарата, который записывал бы мысли людей, иначе всех пришлось бы упрятать в психушку или тюрьму.
Девицы справа вовсю дымили и оживленно болтали между собой. Прислушавшись, я разобрал обрывок фразы: «Вчера приглашали в „Метрополь“, у них денег навалом… дом на Кипре… яхта…» Дальше шло о каком-то Илье Ароновиче, но что именно, я не расслышал.
Слева сидела женщина лет тридцати и, судя по тому, что время от времени поглядывала на часы, кого-то ждала. Не знаю почему, но я хорошо запомнил, как она была одета: в короткое зимнее пальто синего цвета, голубую шерстяную юбку, а на ногах, несмотря на то, что вокруг лежал снег, были легкие осенние ботинки. Прямо перед собой на коленях она держала небольшую красную сумочку, ремешок которой не переставая теребила пальцами. «Свидание, наверное», – подумал я, и женщина, будто в подтверждение этих слов, вновь посмотрела на часы. Я не стал поворачивать головы и снова увидел только руки, которые, будто чего-то боясь, украдкой, отогнули рукав пальто. Я отвернулся: человеку, который так смотрит на часы, и без того кажется, что все взгляды непременно устремлены на него. К тому же я боялся, что, заметив мой повышенный интерес к собственной персоне, она пересядет, и я не увижу, кого она ждет. Время шло, но никто не появлялся.
Внезапно в сквере стало многолюдно.
В кинотеатре кончился сеанс, и из открывшихся дверей хлынул народ. В глазах зарябило. Холодный звенящий воздух наполнился гулом голосов и шарканьем ног по едва покрытому снегом асфальту. Я вдруг опять почувствовал досаду: мимо проходили люди, и сосредоточиться вновь не было никакой возможности.
Скоро последние зрители покинули кинотеатр, и опять в сквере стало спокойно. Настолько, насколько это может быть в час пик.
Снег, падавший до сих пор довольно часто, стал реже и мельче. Как если бы его кто-то специально просеял сквозь мелкое сито.
Обернувшись, я увидел, что девицы исчезли, оставив после себя на лавке смятую пачку из-под длинных сигарет с ментолом.
Холод становился все ощутимее, и я почувствовал, что мороз постепенно начинает пощипывать мочки ушей.
Над «Известиями» по световому табло поплыли цепочки слов, передавая последние новости. Табло было черным и сливалось с уже совершенно потемневшим небом, поэтому казалось, что слова возникают как бы из пустоты и, пройдя положенное им расстояние, снова проваливаются неизвестно куда.
Какие-то рабочие открыли новую буровую, на Ближнем Востоке все бушевали беспорядки, США вновь наложили на кого-то санкции, с успехом прошли гастроли нашего ансамбля в Испании, в германском зоопарке родился гиппопотам, что еще раз подтверждало возможность размножения этих животных в неволе. Погода назавтра ожидалась хорошая: 9-12 градусов мороза, без осадков, ветер северо-западный, 1–3 метра в секунду.
Потом табло на некоторое время погасло, а чуть позже пошла реклама.
Повернув голову влево, я увидел, что женщина по-прежнему сидит на том же месте. Все было как несколько минут назад.
Откровенно говоря, я тогда уже совершенно потерял надежду, что увижу, кого она ждет, и интерес к ней у меня почти пропал. Однако по инерции я продолжал наблюдать. Помню, я еще подумал, что она очень недурна собой и что у того малого, которого она вот уже минут сорок как ждет, губа не дура. Тут я увидел, что женщина открыла сумочку и достала оттуда зажигалку. Сигарету она вынула раньше, очевидно, тогда, когда я смотрел на табло. Руки у нее заметно дрожали, и зажигалка ни за что не хотела включаться. Наконец показался колышущийся конус пламени, и когда огонь, поднесенный на мгновение к кончику сигареты, осветил ее лицо, я вдруг увидел, что она плачет. В следующий момент огонек погас, и слез снова не стало видно.
Я отвернулся. Внезапно мне сделалось стыдно ее слез: будто я через щель между занавесками или в замочную скважину подсмотрел то, что меня совсем не касалось. Я уже хотел пересесть, но женщина встала и направилась к метро. Посмотрев ей вслед, я вдруг увидел, что она беременна, и смутно почувствовал к ней нечто вроде отвращения. Романтическая влюбленная на поверку оказалась просто брошенной бабой. Скоро синее пальто совершенно затерялось в толпе, и я остался один.
Какой-то парень, подошедший со стороны кинотеатра, уселся на лавку рядом со мной. Открыв дипломат, он извлек оттуда журнал «Химия и жизнь» и пакетик жареного картофеля. С шумом вскрыв пакет, парень громко захрустел, поглощая один за другим жареные ломтики, в то же время другой рукой стараясь что-то отыскать в журнале.
Сидеть на лавке становилось холодно.
Встав, я медленно побрел по скверу. Торопиться было некуда, да и незачем.
Вокруг опять засуетились в нелепом и немом хороводе люди, быстро и однообразно сменяя друг друга, как кадры на кинопленке.
Выйдя из сквера на улицу, я отправился в сторону «Маяковки», то есть туда, откуда полтора часа назад пришел.
Отчего-то было досадно.
Надо сказать, что на протяжении всего того времени, которое я теперь описываю, меня до самой последней минуты не покидало ощущение какого-то тягостного ожидания. Будто вот-вот должно было что-то произойти, а что именно, я и сам не знал толком. В университет я не ходил уже с неделю, и, вполне вероятно, причиной подобного состояния было именно то пугающе-захватывающее чувство полной свободы, которое совершенно внезапно мной овладело. Ощущение пустоты, ненужности и незанятости сменилось уверенностью в приближении чего-то неизбежного и вместе с тем важного. Хотя, вполне вероятно, что подобные выводы я делаю лишь сейчас, задним числом. Впрочем, опять это может лишь казаться и опять-таки именно сейчас. В любом случае, я не могу думать так, как думал тогда. События изменяют людей, и то «я», что было, к примеру, вчера, уже совершенно не то, что сегодня. А завтра оно изменится еще больше, не говоря уж о том, что будет через неделю. Поэтому я думаю, а стало быть и пишу в любом случае уже не то, что думал или писал бы тогда, если бы мне вдруг пришла в голову фантазия заняться подобным делом.
Путаница какая-то. А в общем, это не так важно.
Подробности следующего часа моих скитаний по улицам я позабыл. Помню только, что пристал к какой-то рыжей девице знакомиться, а та выпендривалась и корчила из себя кинозвезду, делая вид, что ей неприятны или в лучшем случае безразличны мои домогательства, хотя при этом она не только не пыталась уйти, но, напротив, довольно долго шла со мной вместе, так что у меня даже создалось впечатление, что ей было совсем не в ту сторону. Под конец она сказала, что она замужем, на что я ей возразил, что она, должно быть, совсем недавно замужем, так как все еще вставляет это в разговор, когда ее об этом не спрашивают. На это она обиделась и телефона не дала, хотя, может, и сделала бы это, поупрашивай я ее подольше. К тому времени она мне уже порядком надоела, и я вдруг, сам хорошенько не зная зачем, обозвал ее дурой и крашеной выдрой. Потом сказал, что пусть она не выпендривается, будто все это ей неприятно, даже будь она трижды замужем. А если это действительно так, то почему она не уходит, а разыгрывает из себя утомленную мужским вниманием примадонну.
В ответ она мне, когда я уже уходил, прокричала какую-то совершенную гадость, с чем, собственно, мы и расстались. Как сказал классик, бессмысленно и беспощадно.
Надо сказать, у меня был один приятель, который очень любил проделывать подобные эксперименты. Что-то вроде хобби имел такого. Имя его было Алексей, или, как звали у нас его все между собой для краткости – Алекс. Учился он в Щепкинском, а подобные сценки почему-то именовал «расколами». Причем, по-моему, это было его любимое занятие, так как мастерства в нем он достиг неимоверного. Я же участвовал в его экспериментах постольку поскольку ему была необходима аудитория. К тому же мне постоянно в спорах, которые неизбежно на этот предмет возникали, приходилось исполнять роль оппонента, так что под конец мной овладевал даже какой-то азарт: а что если на этот раз не получится? Хотя, должен признаться, мне ни разу не посчастливилось присутствовать при том, чтобы Алекс засыпался. Как-то раз он мне даже прочитал нечто вроде лекции по этому поводу, несмотря на которую я так до сих пор и не понял, каким образом люди могли попадаться на такую наглую и совершенно откровенную ложь. Алекс говорил что-то об инерции мышления и что человек начинает анализировать, думать, только тогда, когда видит какое-то несоответствие. Если его нет, мыслительный аппарат работает вполнакала, а то и совсем отключается, как бы переходит на «автопилот». И вот если ты сам не дашь это несоответствие, то все будет нормально. Собеседник твой благополучно «проспит» и поверит даже в то, что ты – папа Римский, очутившийся в Москве по случаю, пролетом из Рима в Ватикан.







