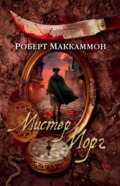Роберт Маккаммон
Зов ночной птицы
– Это называется «стекло», – негромко произнес сидевший за столом мужчина.
Мэтью приложил к окну вторую ладонь и всеми пальцами ощутил сопротивление этой новой для него магии. Сердце забилось учащенно, когда он понял, что имеет дело с чем-то, превосходящим его понимание. Как окно может быть открытым и в то же время закрытым?
– У тебя есть имя? – спросил мужчина.
Мэтью не удосужился ответить. Он был целиком поглощен исследованием загадочного окна.
– Я – директор Стаунтон, – сообщил мужчина, не повышая голоса. – Ты можешь сказать, сколько тебе лет?
Мэтью подался вперед, и кончик его носа расплющился о незримую поверхность, по которой мутным пятном расплылось его дыхание.
– Надо думать, тебе в жизни пришлось несладко, – продолжил мужчина. – Может, расскажешь мне об этом?
Между тем пальцы Мэтью вновь занялись делом, щупая и нажимая, а его детский лоб рассекли задумчивые складки.
– Где твои родители? – спросил Стаунтон.
– Умерли, – ответил Мэтью, хотя, вообще-то, отвечать не собирался.
– А какая у вашей семьи фамилия?
Мэтью постучал по окну костяшками пальцев.
– Как получилась такая диковина? – спросил он.
Стаунтон помолчал, склонив голову набок. Затем протянул худую руку в старческих пятнах, взял со стола перед собой очки и водрузил их на нос.
– Такие вещи делает стекольщик.
– Стекольщик? А это что такое?
– Это человек, который занимается изготовлением стекла и потом вставляет его в свинцовые рамы.
Мэтью встряхнул головой, все еще не понимая.
– Этот вид ремесла появился в наших колониях совсем недавно, – пояснил Стаунтон. – Тебя он интересует?
– Отродясь не видал ничего эдакого. Окно как бы открыто, но и закрыто притом.
– Да, пожалуй, можно сказать и так. – Директор слегка улыбнулся, что смягчило черты его худого лица. – А ты не лишен любознательности, верно?
– Я лишен всего вообще, – сурово и твердо заявил Мэтью. – Налетели эти сучары и лишили нас всего. Обобрали подчистую.
– За сегодняшний день я повидал шестерых из вашего племени. И ты первый из всех, кто проявил интерес к окну. Так что, я думаю, любознательность у тебя есть.
Мэтью пожал плечами. Затем, ощутив давление в мочевом пузыре, задрал подол своей хламиды и помочился на ближайшую стену.
– Я вижу, ты привык вести себя как животное. Теперь придется отвыкать от некоторых вещей. Облегчаться надлежит в горшок – и в уединении, как положено джентльмену, – иначе ты получишь два удара розгами от нашего мастера наказаний. Сквернословие также карается двумя ударами. – Голос директора зазвучал весомо, а глаза за стеклами очков посуровели. – Поскольку ты здесь новичок, я оставлю это первое проявление дурных привычек без последствий, но за собой ты все уберешь, разумеется. Если же ты проделаешь нечто подобное еще раз, я лично прослежу, чтобы тебя выпороли должным образом, а наш мастер наказаний – можешь мне поверить, сынок, – очень хорошо знает свое дело. Ты меня понял?
Мэтью собрался было вновь пожать плечами, отвергая претензии старика, но ощутил на себе его грозный взгляд и смекнул, что ему это может больно аукнуться. Посему он ответил кивком, а потом отвернулся от директора и вновь сосредоточил внимание на окне. Он провел по стеклу пальцами, нащупав незримые неровности.
– Сколько тебе лет? – спросил Стаунтон. – Семь? Восемь?
– Между тем и тем, – сказал Мэтью.
– Ты умеешь читать и писать?
– Малость кумекаю в числах. Десять пальцев на руках и десять на ногах. Вместе выходит двадцать. Вдвое против того будет сорок. А ежели еще удвоить, это будет…
Тут он задумался. В свое время отец учил его основам счета, а пройти весь алфавит им помешал злополучный удар копытом по черепу.
– …Будет сорок и сорок, – закончил он. – И еще я знаю буквы: эй-би-си-ди-и-эф-джи-эйч-ай-джей-эн-эл-оу-пи-кей…
– Не так уж и плохо для начала. Твои родители дали тебе имя, надо полагать?
Мэтью не спешил с ответом. Ему казалось, что, сообщив свое имя директору, он даст ему некую власть над собой, а к такому обороту Мэтью готов не был.
– А это окно, – спросил он, – дождик пропускает или как?
– Не пропускает. В ветреные дни оно впускает сюда солнце, но задерживает ветер. Так что у меня достаточно света для чтения, но можно не опасаться, что мои бумаги сдует со стола.
– Раздери меня чертяка! – восхитился Мэтью. – Каких только штукенций люди не измыслят!
– Следи за языком, дружок, – предупредил Стаунтон, но не без нотки веселья в голосе. – Еще одно чертыханье, и ты близко познакомишься с розгами. Постарайся усвоить и запомнить следующее: лично я хочу быть твоим другом, но только от тебя зависит, станем мы дружить или конфликтовать – то есть враждовать. В этом приюте шестьдесят восемь мальчиков в возрасте от семи до семнадцати лет. У меня нет времени и сил нянчиться с вами всеми, но я строго слежу за тем, чтобы сквернословие и прочие дурные поступки не оставались безнаказанными. Чего не излечат розги, то долечит окунание в бочку. – Он сделал паузу, дабы сказанное успело достигнуть самых глубин сознания Мэтью. – Тебе будут давать уроки, чтобы ты получал знания, и посильную работу, чтобы не бездельничал. Ты должен освоить навыки чтения и письма, а также основные арифметические действия. По воскресеньям будешь ходить в церковь и читать Священное Писание. И ты будешь вести себя, как подобает юному джентльмену. При всем при том… – добавил Стаунтон, смягчая тон, – здесь не тюрьма, а я не надзиратель. Главная цель этого заведения – подготовить тебя к выходу отсюда.
– Когда? – спросил Мэтью.
– В свое время, и не ранее того. – Стаунтон макнул перо в чернильницу и занес его над гроссбухом. – А теперь я хотел бы узнать твое имя.
Внимание Мэтью сразу же переключилось на окно.
– Хотел бы я взглянуть, как они его делают, – сказал он. – Но это жуть как сложно, да ведь?
– Не так уж и сложно. – Стаунтон несколько секунд смотрел на мальчика, прежде чем продолжить. – Давай заключим с тобой сделку, сынок. Стекольная мастерская находится неподалеку. Ты сейчас назовешь свое имя и немного расскажешь о себе, и тогда – если тебя это действительно интересует – я попрошу стекольщика прийти сюда и рассказать нам о своем ремесле. Как тебе такой обмен? Удовлетворяет?
Мэтью задумался, понимая, что этот человек предложил нечто для него важное, как важен огонь для свечи: знания.
– Вдов-ли-творяет, – кивнув, повторил он последнее слово. – Меня зовут Мэтью Корбетт. С двумя «тэ».
Директор Стаунтон вписал его имя в гроссбух мелким аккуратным почерком, и с той самой минуты жизнь Мэтью Корбетта сошла с кривой дорожки, по которой она катилась дотоле.
Книги и терпеливое поощрение сделали свое дело, тем более что Мэтью проявил себя очень способным учеником. Стаунтон сдержал слово и пригласил стекольщика, который поведал собравшимся мальчикам о своем ремесле. Этот визит имел такой успех, что за ним последовали встречи с сапожником, парусным мастером, кузнецом и представителями других достойных профессий, жившими по ту сторону приютских стен. Как ревностный христианин (он был священником до получения должности директора приюта), Стаунтон отличался скрупулезной честностью, но при этом ставил перед своими питомцами высокие цели и многого от них требовал. Близкого знакомства с розгами Мэтью не избежал, но несколько таких случаев успешно излечили его от сквернословия и в целом благотворно сказались на его манерах. Быстрые успехи Мэтью в чтении и письме так впечатлили Стаунтона, что спустя год он решил обучать его латыни – честь, каковой, помимо него, были удостоены только двое воспитанников приюта. Одновременно это дало ему ключ к содержанию множества латинских книг из библиотеки Стаунтона. Через два года усердного штудирования латыни – наряду с английским и арифметикой – Мэтью оставил далеко позади всех прочих учеников благодаря исключительной сметливости и умению всецело сосредотачиваться на конкретном предмете.
Жилось ему в целом неплохо. Каждый день он выполнял возложенные на него работы по хозяйству, после чего возвращался к своим занятиям со страстью, граничившей с религиозной одержимостью. Некоторые из мальчиков, попавших в приют вместе с ним, покинули это заведение, чтобы стать учениками ремесленников, а их место занимали новые сироты, но Мэтью оставался здесь, как одинокая недвижная звезда на небосводе, направляя свой свет исключительно на прояснение бесчисленных вопросов, занимавших его ум. Когда Мэтью исполнилось двенадцать, Стаунтон – у которого на шестьдесят четвертом году жизни начал развиваться паралич – стал обучать его французскому, отчасти потому, что находил этот язык достойным восхищения, а отчасти с целью дальнейшего поощрения его тяги к интеллектуальным занятиям.
Дисциплина мысли и контроль над действием – таковым отныне было жизненное кредо Мэтью Корбетта. Когда остальные воспитанники тешились играми вроде слайд-гроута или викета[7], Мэтью чаще всего можно было застать за изучением латинского трактата по астрономии или за переписыванием какого-нибудь французского текста ради улучшения своего почерка. Его зацикленность на учебе – а по сути, неспособность обуздать аппетиты собственного разума – начала беспокоить директора Стаунтона, которому даже пришлось ограничить Мэтью доступ в библиотеку, тем самым понуждая его к участию в играх и состязаниях на свежем воздухе. И все равно он держался особняком, сторонясь других ребят. Он рос долговязым, нескладным и плохо приспособленным к тем буйным развлечениям, которым предавались его однокашники, так что даже в их толпе он был одинок.
Вскоре после четырнадцатого дня рождения Мэтью директор Стаунтон потряс мальчиков и персонал приюта неожиданным заявлением. Ему во сне явился Иисус Христос в сияющих белых одеждах и сообщил, что все его дела в этом месте завершены и осталось лишь одно, последнее задание: он должен отправиться на Запад, в дикие земли фронтира, и там нести Спасение Господне язычникам-индейцам. Видение было столь явственным и убедительным, что Стаунтон ни на миг не усомнился в его истинности; для него это был зов свыше, следуя коему он обеспечивал себе попадание в Царство Небесное.
Перед своим отъездом – в возрасте шестидесяти шести лет, уже наполовину парализованный – директор Стаунтон передал приюту свою личную библиотеку, а также бо́льшую часть денег, накопленных им за тридцать лет службы. Мэтью он отдельно вручил коробочку, обернутую простой белой бумагой, и наказал открыть ее не ранее, чем он покинет приют. На следующее утро директор Стаунтон пожелал каждому из воспитанников удачи и преуспеяния в жизни, погрузился в фургон, взял в руки бразды своей судьбы и – с одной лишь Библией в качестве щита и спутника – отправился на пристань к парому, который должен был перевезти его через Гудзон в его персональную обетованную землю.
Уединившись в часовне приюта, Мэтью развернул бумагу и открыл коробочку. Внутри оказалась стеклянная пластинка размером с ладонь, специально изготовленная для него стекольщиком. Мэтью понял, что означал этот дар директора Стаунтона: ничем не замутненное видение окружающего мира.
А недолгое время спустя приют обрел нового директора по имени Эбен Осли. На взгляд Мэтью, это был пузатый и толстомордый сгусток скверны в ее чистейшем виде. Первым делом Осли уволил весь персонал Стаунтона и заменил его своей бандой отъявленных мерзавцев. Розги теперь шли в ход намного чаще прежнего, а окунание в бочку стало рутинной процедурой, применявшейся даже при самых ничтожных провинностях. Порки превратились в избиения, а по ночам, когда гасили свет в спальнях, Осли частенько забирал кого-нибудь из младших мальчиков в свои покои, где творились такие неописуемые гнусности, что один из этих бедолаг, терзаемый стыдом и унижением, в конце концов повесился на колокольне приютской часовни.
По счастью, Мэтью был уже не настолько юн, чтобы привлечь внимание Осли. Тот оставил его в покое, и Мэтью глубже прежнего погрузился в учебу. Новому директору было чуждо пристрастие Стаунтона к чистоте и порядку, и вскоре приют уподобился свинарнику, а крысы обнаглели до того, что за ужином таскали еду прямо из тарелок. Периодически кто-нибудь из мальчиков решался на побег; тех, кто был пойман и возвращен, подвергали жестокой порке и морили голодом. Некоторые умерли и были похоронены в небрежно сколоченных ящиках на кладбище рядом с часовней. Мэтью проводил время за чтением книг, совершенствовался в латыни и французском; но в глубине души он дал себе клятву рано или поздно, тем или иным способом добиться того, чтобы жернова правосудия стерли Эбена Осли в порошок, как какую-нибудь гнилушку.
И вот однажды – в середине пятнадцатого года его жизни – к ним прибыл незнакомец с намерением найти толкового юнца, чтобы обучить его секретарскому делу. По такому случаю были отобраны пятеро самых образованных старших учеников; их выстроили во дворе, и приезжий двинулся вдоль строя, поочередно расспрашивая каждого. Но когда он подошел к Мэтью, первый вопрос был задан мальчиком:
– Сэр, могу я осведомиться о вашей профессии?
– Я мировой судья, – сказал Айзек Вудворд, и Мэтью быстро взглянул на Осли, стоявшего рядом с натянутой улыбочкой на губах и холодным безразличием во взоре.
– Расскажите о себе, молодой человек, – обратился к нему Вудворд.
Настало время покинуть приют. Мэтью понял это отчетливо. Пора было расширять горизонты – но даже там, во внешнем мире, он никогда не потеряет из виду это место и не забудет того, чему здесь научился. Он прямо посмотрел в лицо судье, в его тронутые печалью глаза, и произнес:
– Мое прошлое вряд ли будет вам интересно, сэр. Насколько понимаю, вам важно знать, смогу ли я быть вам полезен в настоящем и в будущем. Что касается этого: я могу говорить и писать на латыни. Я также неплохо владею французским. Я ничего не смыслю в судопроизводстве, но я быстро учусь. Почерк у меня разборчивый, память и внимание в порядке, вредных привычек практически нет…
– Не считая раздутого самомнения и чувства, будто он слишком велик для своих штанов, – прервал его Осли.
– Разумеется, наш директор предпочитает штанишки размером поменьше, – парировал Мэтью, по-прежнему глядя в глаза Вудворду. Он скорее ощутил, чем увидел, как Осли застыл на месте, едва сдерживая вспышку ярости; один из стоявших рядом юнцов успел подавить смешок, который мог бы стать для него роковым. – Как я уже сказал, у меня практически нет вредных привычек. Я могу быстро освоить все, что мне положено знать по должности, и секретарь из меня выйдет очень даже дельный. Так вы заберете меня отсюда, сэр?
– Этот мальчишка ни на что не годен! – вновь заговорил Осли. – Он скандалист и лжец! Пшел вон отсюда, Корбетт!
– Секундочку, – промолвил мировой судья. – Если он ни на что не годен, почему вы тогда включили его в число претендентов?
Лунообразное лицо Осли побагровело.
– Ну… потому что… видите ли, я…
– Я бы хотел взглянуть на образец твоего почерка, – обратился Вудворд к мальчику. – Напиши-ка мне… скажем… «Отче наш». На латыни, раз уж ты такой ученый. – Он повернулся к Осли. – Это можно устроить?
– Да, сэр. У меня в кабинете найдутся перо и бумага.
Директор бросил на Мэтью взгляд – который, будь он кинжалом, вонзился бы ему меж глаз по самую рукоятку, – после чего распустил остальных юнцов и направился к своему кабинету.
Когда по результатам испытания мировой судья убедился в том, что Мэтью может быть ценным помощником, они подписали документ о его передаче под опеку мирового судьи, после чего Вудворд заявил, что у него есть еще дела в других местах и что он вернется за мальчиком на следующее утро.
– Я рассчитываю найти этого молодого человека в добром здравии, – сказал Вудворд директору. – Отныне он мой подопечный, и я буду чрезвычайно недоволен, если этой ночью он пострадает в результате какого-нибудь несчастного случая.
– Вам не о чем беспокоиться, сэр, – натянутым тоном ответил Осли. – Однако мне потребуется плата в размере одной гинеи за то, что я предоставляю ему кров и стол вплоть до вашего возвращения. Ведь он теперь уже на вашем попечении.
– Резонно.
И полновесная золотая гинея – равная двадцати одному шиллингу, что было непомерно высокой платой за такую услугу, – перекочевала из кошелька Вудворда в протянутую ладонь Осли. Так было заключено соглашение, и такой ценой была куплена безопасность Мэтью.
Тем не менее за ужином в столовую нагрянул один из брутальных прислужников Осли. В наступившей тишине он прямиком направился к Мэтью и сцапал его за плечо.
– Идем со мной, – сказал он, и Мэтью ничего не оставалось, кроме как подчиниться.
Осли сидел за столом в директорском кабинете, где в лучшие времена сиживал Стаунтон. Помещение было замусорено, а оконные стекла покрылись слоем копоти. Осли раскурил длинную трубку от огонька свечи и сказал своему клеврету:
– Оставь нас.
Когда тот удалился, Осли молча продолжал курить, развалившись в кресле и буравя Мэтью темными глазками.
– Мой ужин остывает, – первым заговорил Мэтью, уже одним этим напрашиваясь на розги.
– Ты считаешь себя чертовски умным, да? – Осли затянулся и выпустил дым из ноздрей. – Прямо-таки умник из умников. Но ты далеко не так умен, как тебе кажется.
– Я должен вам ответить, сэр, или вы хотите, чтобы я молчал?
– Молчи. Стой там и слушай. Ты думаешь, что, перейдя под опеку судьи, ты сможешь мне как-то навредить, верно? Может, ты рассчитываешь обратить его внимание на некоторые из моих поступков?
– Сэр, – произнес Мэтью, – могу я порекомендовать вам хороший трактат о логике для чтения перед сном?
– Логика? А это здесь при чем?
– Вы сначала приказали мне молчать, а потом стали задавать вопросы, требующие моего ответа.
– Закрой рот, мелкий недоносок! – Осли в гневе вскочил на ноги. – И хорошенько запомни то, что я сейчас скажу! Моя должность дает мне всю полноту власти в пределах этого учреждения, и я волен управлять им так, как сочту нужным! В том числе поддерживать порядок и назначать наказания, как сочту нужным!
Осознав, что вот-вот потеряет контроль над собой, Осли снова сел в кресло и уставился на Мэтью сквозь клубы сизого табачного дыма.
– Никто не сможет доказать, что я пренебрегал своими обязанностями либо проявлял излишнее рвение, применяя свои методы, – продолжил он уже без надрыва. – Не сможет по одной простой причине: потому что этого не было. Мои действия, все вместе и каждое по отдельности, были всегда направлены на благо моих питомцев. Ты с этим согласен или нет?
– Полагаю, вы сейчас хотите, чтобы я заговорил?
– Говори.
– Меня не так уж сильно коробят ваши методы наказания, хотя должен отметить нездоровую радость, с какой применяются некоторые из них, – сказал Мэтью. – Но я не могу смириться с другими методами, которые вы используете после того, как в спальнях гасят свет.
– О каких именно методах ты говоришь? О моих воспитательных беседах со своенравными, упрямыми мальчишками, чьи выходки представляют опасность для окружающих? О моих попытках приструнить этих упрямцев и наставить их на правильный путь? Ты это имел в виду?
– Думаю, вы прекрасно поняли, что я имел в виду, сэр.
Осли коротко и грубо хохотнул:
– Ты ничего толком не знаешь. Видел ли ты своими глазами что-нибудь предосудительное? Нет. Ты, конечно, мог наслушаться всяких россказней. Просто вы все терпеть меня не можете. В этом вся причина. Вы меня не выносите, потому что я ваш хозяин, а дикие псы не выносят ошейника. И сейчас ты вообразил себя великим умником и надеешься создать мне проблемы, используя этого балабола в черной мантии. Но я скажу тебе, почему ты этого не сделаешь.
Мэтью пришлось ждать, пока директор вновь набьет свою трубку и, примяв табак пальцем, раскурит ее с нарочитой медлительностью.
– Твои обвинения, – язвительно продолжил Осли, – будет очень трудно подтвердить. Как я уже сказал, моя должность дает мне абсолютную власть. Да, я применял довольно суровые наказания. Возможно, слишком суровые. И вероятно, именно поэтому тебе вздумалось меня оклеветать. А как насчет других воспитанников? То-то и оно… Мне нравится моя должность, молодой человек, и я намерен оставаться здесь еще много лет. Если ты завтра покинешь приют, это еще не значит, что остальные – твои друзья, среди которых ты вырос, – тоже вскоре выйдут отсюда. И твои действия могут сильно осложнить их дальнейшую жизнь в этих стенах.
Он сделал затяжку, задрал голову и выпустил струю дыма в потолок.
– Здесь так много младших мальчиков, – сказал он. – Тех, кто гораздо младше тебя. А ты знаешь, сколько больниц и церквей хотят пристроить сирот у нас? Дня не проходит, чтобы я не получал запроса о наличии свободных коек. Очень многим мне приходится отказывать. Так что приток новичков будет всегда, можешь не сомневаться. – Он с холодной усмешкой взглянул на Мэтью. – Хочешь, дам тебе совет?
Мэтью промолчал.
– Считай себя везунчиком, – продолжил Осли. – Твое образование будет продолжаться уже в большом мире. Постарайся стать незаменимым помощником для мирового судьи, живи долго и счастливо себе на радость и другим на пользу.
Тут он поднял толстый палец, призывая Мэтью к вниманию.
– И никогда-никогда не затевай войну, в которой у тебя нет шансов на победу. Ты хорошо меня понял?
Мэтью медлил с ответом. Его мозг работал в полную силу, рассматривая эту проблему под разными углами и в различных плоскостях, представляя ее схематически и в разрезе, поворачивая ее так и эдак, встряхивая ее в надежде, что какой-нибудь гвоздик расшатается в гнезде, растягивая ее цепью в попытке отыскать хоть одно ржавое звено, которое можно будет сломать.
– Ты хорошо меня понял? – с нажимом повторил Осли.
У Мэтью под рукой был лишь один ответ. По крайней мере, в ту минуту.
– Да, – произнес он предельно спокойным тоном.
– Отлично. Можешь идти доедать свой ужин.
Мэтью покинул директорский кабинет и вернулся в столовую; ужин, разумеется, остыл и показался ему совершенно безвкусным. Той ночью в спальне он загодя попрощался с друзьями и залез в свою постель на втором ярусе, но так и не смог уснуть. То, что должно было стать поводом для радости, обернулось долгими раздумьями с немалой примесью сожаления. Рассвет застал его уже одетым и сидящим в ожидании. Вскоре зазвенел колокольчик у главных ворот, и в спальню явился приютский работник, чтобы отвести его во двор к судье Вудворду.
Когда экипаж судьи тронулся, Мэтью окинул взглядом здание и заметил Осли, наблюдающего за их отъездом из окна своего кабинета. Мэтью почувствовал себя так, будто к его горлу приставили острие кинжала. Он отвел взгляд от директорского окна и вместо этого уставился на свои крепко сцепленные руки.
– Неважно выглядите, молодой человек, – сказал судья. – Вас что-то тревожит?
– Да, сэр, – был вынужден признать Мэтью.
Пока колеса экипажа крутились, увозя его все дальше от приюта, он думал о директоре у окна, об оставленных позади сиротах и о жестоких карах, которые мог обрушить на них Осли. «Я намерен оставаться здесь еще много лет», – сказал он. Что ж, в таком случае Мэтью всегда будет знать, где его найти.
– Не хочешь поговорить об этом? – спросил Вудворд.
– Нет, сэр. Это моя проблема, и ничья более. И я найду способ ее решить. Я его найду.
– Что?
Мэтью посмотрел судье в лицо. На Вудворде больше не было парика и треуголки, и он заметно состарился с того дня, когда увез Мэтью из сиротского приюта. Сквозь густые ветви придорожных деревьев пробивался мелкий дождь; дымка от испарений висела над слякотной поверхностью дороги, по которой катил их фургон. Впереди виднелся другой фургон, управляемый Пейном.
– Ты что-то сказал, Мэтью? – спросил судья.
Должно быть, он произнес: «Я его найду».
Мэтью потребовалось еще несколько секунд, чтобы окончательно вернуться из своих воспоминаний в настоящее время.
– Кажется, я размышлял вслух, – сказал он и до конца пути больше не произнес ни слова.
Но вот из дымки впереди показалась частокольная ограда Фаунт-Ройала. Дозорный на вышке ударил в колокол, ворота распахнулись, и они въехали в ведьмовской город.