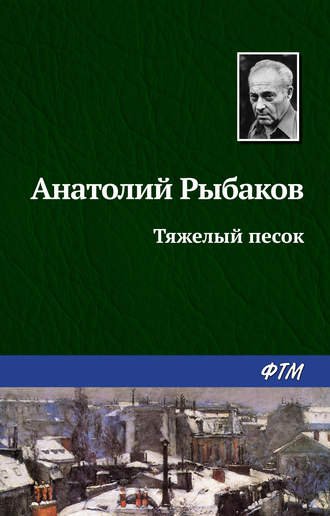
Анатолий Рыбаков
Тяжелый песок
5
Повторяю, характер дедушки был сложный, противоречивый, и вот пример – его отношение к собственным детям. У моей матери, Рахили, был замечательный голос. Надо вам сказать, что все Рахленки прекрасно пели, но когда пела моя мать, возле дома собиралась толпа, все слушали, один раз даже палисадник сломали. Как-то, еще девушкой, мама гуляла со своей компанией по лесу и запела. А в лесу, как я рассказывал, было полно дачников, и в их числе оказался профессор консерватории из Петербурга. Профессор слышит, как кто-то поет на весь лес, выводит трели, каких он не слышал даже в консерватории. Он встает со своего гамака, идет на этот голос и видит компанию молодых людей. Но при чужом человеке мама замолчала.
– Кто у вас пел? – спрашивает профессор.
Все молчат, потому что мама молчит. А раз она молчит, значит, не хочет признаться. А поскольку она не хочет признаться, то и другие ее не выдают.
Тогда профессор начинает разговаривать с каждым в отдельности, доходит до мамы и по ее голосу узнает, что пела именно она, на то он и профессор, чтобы догадаться.
– У вас исключительный голос, – говорит профессор, – таких голосов, как ваш, очень мало, а может быть, и вовсе нет. Вам надо ехать в Петербург, учиться в консерватории. Я сделаю для вас все.
Словом, обещает ей золотые горы, подводит к своей жене и дочери, те тоже восхищаются ее голосом, тоже уговаривают ехать в Петербург, тоже сулят золотые горы, жить она будет у них, ни в чем не будет нуждаться, станет знаменитой певицей.
Не знаю, собиралась ли мама в действительности в Петербург, но дедушке она сказала, что хочет поехать.
И дедушка ответил:
– Ехать ты можешь. Но если ты вернешься, то… Видишь этот топор? Этим топором я снесу тебе голову.
Сыновей дедушка иногда избивал до полусмерти, но единственную дочь свою, Рахиль, как я уже говорил, ни разу пальцем не тронул. И вот такая угроза. И как только он ее произнес, мама тут же решила ехать, хотя, как вы убедились, была не слишком большой любительницей ездить с места на место, даже Швейцария ей не понравилась. Но уступить? Это тоже было не в ее характере. Вероятно, она бы уехала. Но вскоре после этого случая в городе появился другой профессор, профессор Ивановский с сыном Якобом, и что произошло дальше, вы знаете. С того часа, как мама увидела моего будущего отца, никакой консерватории больше не существовало.
Свой голос мама сохранила и в зрелом возрасте, конечно, голос непоставленный, необработанный, как говорили специалисты, но выдающийся. Уже на моей памяти в наш город приезжала одна профессорша, на этот раз из Московской консерватории. Она услышала маму, явилась к нам домой и сказала:
– Я из вас сделаю певицу лучше Катульской. Не вы будете слушать Катульскую, а Катульская будет слушать вас.
Мама только посмеялась… О Катульской она вообще понятия не имела, и о каком пении может идти речь – уже дети взрослые.
Но как в свое время обошелся дедушка с ее талантом, вы убедились.
Старшего сына дедушки звали Иосиф. Он был первенец, и дедушка его очень любил. Но должен вам сказать, что никого из своих сыновей дедушка так не бил, как Иосифа. Бил смертным боем. И за дело. Во-первых, Иосиф не пожелал учиться. В дом ходил учитель, некто Курас, очень хороший педагог по всем предметам, занимался с Иосифом, и сам дедушка занимался с ним, как простой школьник…
Да, да… Когда приходил Курас, дедушка подсаживался как бы из любопытства, решал задачки, писал сочинения, изложения, и таким образом научился читать и писать по-русски, получил кое-какие начатки образования. Согласитесь, для взрослого, делового, занятого человека это довольно, я бы сказал, самоотверженный поступок.
Итак, в дом ходит учитель Курас, у Иосифа есть способности, он все схватывает на лету, значит, учись на здоровье? Нет! Он, видите ли, увлекся голубями. Ничего, кроме голубей, не хотел знать, гонял их целыми днями; мальчишка, но у него лучшая в городе голубиная охота, и не просто охота, а предприятие, он с малых лет делал дела, и первым делом были голуби: менял, продавал, брал выкуп за пойманных голубей, – в общем, делал свой гешефт, и вся его жизнь была гешефт. Он вырос форменным бандитом, творил черт знает что, уму непостижимо: воровал у дедушки кожу и готовый товар, и у нашего соседа, шорника Сташенка Афанасия Прокопьевича, тоже воровал кожу, всех обманывал, играл в карты, в общем – разбойник.
Внешне он был похож на дедушку. Но у дедушки на лице было написано благородство, а у Иосифа из глаз торчала финка. На дедушку было приятно смотреть, на Иосифа – неприятно. Дедушка был умный, Иосиф – хитрый и вероломный, одним хамил, перед другими подхалимничал, лозунг его был такой: «Ласковое теля двух маток сосет». Умел улыбаться, и когда улыбался, то это был ангел, втирался в доверие к людям и потом их обманывал. Был у него дружок по имени Хонька Брук, такой же бандит, работал на дровяном складе, при складе была сторожка с чугунной печуркой, там собиралась их компания, играли ночами в карты, водили девок, пили водку. Со временем, я думаю, из них бы составилась профессиональная банда. Но тут началась Первая мировая война. Иосифа забрали в армию, но и в армии он сумел устроиться: влюбил в себя жену капельмейстера, и она заставила мужа взять Иосифа в оркестр, выучить играть на флейте. Так, играя на флейте, он и провоевал всю войну.
Женщины его любили, липли к нему, он был красивый, удалой, умел одеваться, но с женщинами обращался по-свински. На этой почве возникали разные истории и конфликты.
Со своим соседом, шорником Сташенком Афанасием Прокопьевичем, мой дедушка очень дружил, хотя тот был моложе его на десять лет. Сташенки были хорошие, порядочные люди, и об этой семье речь впереди. Пока скажу только, что старшего сына Сташенка, Андрея, в августе четырнадцатого призвали в армию, и жена его, Ксана, осталась с грудным ребенком на руках, была, значит, солдаткой и довольно долго: Андрей вернулся из немецкого плена в восемнадцатом году. А Иосиф вернулся из армии в семнадцатом, и вот рядом красивая молодая солдатка без мужа, Иосиф, естественно, положил на нее глаз, заходил к Сташенкам за тем, за другим, останавливал Ксану на улице и через забор с ней переговаривался, – в общем, всем стало ясно, чего он домогается. Ксана на приставания Иосифа не отвечала, но городок маленький, южный, все на виду, все видят, как Иосиф вяжется к Ксане, и этот факт ее компрометирует, дает пищу судам и пересудам, как это бывает в провинции, где женщины любят почесать языки.
Между мамой и дядей Иосифом произошел разговор при мне: мама думала, что я ничего не понимаю, мне было лет пять или шесть. Но дети в этом возрасте очень понятливы, чутки и многое запоминают. Помню Иосифа перед зеркалом, он щеткой приглаживал блестящие волосы, смазанные бриллиантином.
– Ты стал чересчур лепиться к сташенковскому забору, – сказала мама.
– Не суйся не в свое дело, – ответил Иосиф, не оборачиваясь.
– Позоришь замужнюю женщину!
– Что еще скажешь?
– Ты мерзавец и негодяй!
– Договоришься! – пригрозил Иосиф.
В тот же или на другой день стоит Иосиф у забора, разделяющего наши сады, и разговаривает с Ксаной. Подходит мать.
– Ксана! У тебя есть глаза? Возьми коромысло и огрей этого скота как следует, чтобы не привязывался.
В саду у Сташенков работали и другие женщины из их семьи, они это слышат и тоже подходят к плетню.
Я думаю, в эту минуту Иосиф был способен убить мою мать, но кругом женщины и дети, и у него хватило ума не затевать скандала. Обругал маму «дурой» и ушел.
И я отчетливо помню, как Ксана сказала:
– Спасибо вам, Рахиль Абрамовна!
После этого Иосиф перестал вязаться к Ксане, к Сташенкам не заходил, но эта история, к сожалению, ничему его не научила.
Была у нас беженка из Бессарабии, несчастная одинокая девушка, Иосиф стал с ней жить и, когда она забеременела, отослал ее в Гомель, наобещал, наговорил, она поверила и уехала. А Иосиф вслед за ней посылает в Гомель своего дружка Хоньку Брука с деньгами и говорит:
– Передай этой идиотке деньги и скажи, что я на ней никогда не женюсь, она у меня не первая и не последняя.
И Хонька, бандит, с удовольствием передал ей это слово в слово. Вы представляете себе, в те годы женщина незамужняя, беременная, к тому же одинокая; беженка в чужом городе, среди чужих людей! Чего греха таить, мы, мужчины, не святые, особенно когда мы молоды и нам везет на женщин. Но все же есть какие-то пределы, черта, через которую нельзя переступать. Увлекся, сошелся, погулял, но обещать… Обещать и обмануть – не по-мужски. Не обещай! Если она тебя любит, она твоя без всяких обещаний. Мало того! Воспользоваться тем, что девушка одинокая, беззащитная, одним словом, беженка, и потом бросить на произвол судьбы, согласитесь, может только негодяй. А Иосиф был негодяй, думал только о себе, о своих удовольствиях, о своей выгоде.
Эту историю с беженкой я отчетливо помню, следовательно, она произошла уже после революции, может быть, году в восемнадцатом или девятнадцатом, я знаю ее не с чужих слов, сам был очевидцем события и всего, что произошло вокруг него. Произошел конфликт между моим отцом и семейством Рахленков, единственный конфликт, первый и последний, и после него, как мне думается, мы и переехали на другую квартиру.
Иосиф и мой отец были ровесники, однолетки, и, следовательно, в описываемый момент им было лет по двадцать семь, двадцать восемь, во всяком случае, не более тридцати. Но отец к тому времени уже имел четырех детей: после Левы, меня и Ефима на свет божий появилась Люба. А Иосиф был холостой, был делец, сапожное дело бросил, пошел по торговой части, я думаю, спекулировал, делал всякий шахер-махер, особенно при нэпе, вел разгульную жизнь и был большой ходок по женщинам. И, конечно, никаких точек соприкосновения между ним и моим отцом не было. Они презирали друг друга, но отец, человек деликатный, этого не показывал, а Иосиф, как хам, своего презрения не скрывал. Но оскорблять отца не смел, потому что была еще мать, она в любую минуту была готова встать на защиту отца, как наседка за птенца. Только мама была не курица, а ястреб, в семье ее все боялись, и дядя Иосиф боялся. Таким образом, между Иосифом и отцом стояла мать, готовая подавить любую размолвку, потушить любую искру. Но в то же время она не хотела и дружбы между ними, опасалась, что Иосиф вовлечет отца в свои амурные похождения; для Иосифа не существовало ничего святого, он с удовольствием насолил бы родной сестре, взяв ее мужа в напарники. И матери приходилось смотреть в оба, чтобы, с одной стороны, отец и Иосиф не враждовали, с другой, – чтобы не сдружились. О последнем она беспокоилась напрасно. Иосиф был глубоко антипатичен моему отцу, тем более не могло быть речи о женщинах, отцу надо кормить детей, специальности нет, сами понимаете, какие тут женщины! Но от конфликта мать его уберечь не смогла. Конфликт произошел именно из-за беженки.
Никто, конечно, не одобрял поступка Иосифа. Но в том, как осуждал Иосифа мой отец и как осуждали Рахленки, была разница. Отец считал, что Иосиф обязан жениться на этой девушке. Как можно бросить на произвол судьбы собственного ребенка? Для отца долг был на первом месте, ради долга он мог пожертвовать собой, и он требовал того же и от Иосифа. Может быть, в нем говорила и солидарность: девушка была здесь такая же чужая, как и он сам, одинокая, без родных, без знакомых, и он жалел ее. Рахленки тоже осуждали Иосифа, но не за то, что он бросил девушку в таком положении, а за то, что сошелся с ней. Я слышал разговор по этому поводу между отцом и матерью, они думали, что я сплю, но я не спал и все слышал.
Мать рассуждала примерно так:
– Мало барышень из хороших семей, на которых можно жениться? Где были его глаза и где, спрашивается, был его рассудок? Не мальчик, слава Богу, почти тридцать лет! Нет, ему понадобилась именно эта несчастная беженка. И она хороша! Думала, наверно, подцепить завидного жениха, только не знала, с кем имеет дело, вот и влопалась, дура! Конечно, жалко будущего младенца, но что теперь можно сделать? Жениться? Какая у них будет жизнь? Разве такую Иосиф будет уважать? Она ему пара? Днем он будет ее колотить, а ночью спать с другими бабами. Это жизнь? Нет, женитьбой подлость не исправишь.
Так рассуждала моя мать, и так же думали Рахленки, может быть, с некоторыми вариациями: конечно, Иосиф негодяй, но жениться? Женитьба не выход из положения.
В этом разногласии, я думаю, вам видна разница между моим отцом и Рахленками. Он был человек долга, но романтик, витал в облаках, а они твердо стояли на земле и рассуждали реально, тем более ясно: что бы они ни думали, как бы ни рассуждали, Иосиф поступит по-своему и только по-своему, никакая сила не заставит его сделать так, как он не хочет. И дедушка тоже понимал, что ничьему решению, кроме собственного, Иосиф не подчинится, и потому молчал. Каким был дедушка в молодые годы, вы знаете. Я думаю, в окрестных деревнях немало гуляло парней и девок с раскосыми дедушкиными глазами. А о том, что в соседней Петровке от него у одной крестьянки был сын, которого он признал своим, об этом говорили как о безусловном факте. И думаю, что это было так. В своем далеком детстве я помню смутные разговоры на эту тему, помню поездки дедушки в Петровку, и ночевки там, и волнения бабушки, и потом какие-то денежные дела: дедушка помогал своей деревенской любовнице и своему побочному сыну. Так что к подобного рода делам дедушка относился довольно свободно и хладнокровно. Он жалел несчастную беженку, но понимал, что нельзя заставить Иосифа на ней жениться и не надо: ничего хорошего ни для нее, ни для Иосифа из этой женитьбы не выйдет.
Может быть, я не запомнил бы этой истории: был тогда совсем маленький, и таких историй у дяди Иосифа был вагон, – но историю с беженкой я запомнил потому, что был очевидцем скандала между дядей Иосифом и моим отцом, и этот скандал врезался мне в память.
Не знаю, что сказал отец Иосифу, не знаю, с чего началось, если отец что и сказал Иосифу, то, безусловно, в деликатной форме, но, повторяю, не помню, что именно. Но отчетливо помню разъяренное лицо Иосифа, в ярости он был ужасен, не помнил себя, мог убить человека.
Он кричал отцу:
– Швабский ублюдок! Ты смеешь меня учить? Кто ты такой? Паразит, дармоед, сидишь на нашей шее со своей оравой, бездельник, ничего, кроме детей, не умеешь делать, подбашмачник, немчура проклятая! Есть наш хлеб тебе не стыдно, а мне ты смеешь колоть глаза какой-то шлюхой, учить нас приехал, убирайся в свою Швейцарию, швабский ублюдок!
И кидается на отца, а на него, как кошка, кидается моя мать, потому что Иосиф совершенно свободно мог убить отца, он был драчун, как все Рахленки, а отец не то чтобы драться, он в жизни никого пальцем не тронул, и мы, дети, ревем и тоже загораживаем отца, и на шум из мастерской являются дедушка и другие мои дяди, и, услышав слова «швабский ублюдок», дедушка отвешивает Иосифу хорошую оплеуху. Но Иосиф, негодяй, кидается на родного отца, на старика, но тут вступают другие дяди, выкручивают Иосифу руки, и дедушка отвешивает ему еще несколько оплеух, уже не за моего отца, а за самого себя.
В общем, произошла безобразная сцена, она врезалась мне в память, это был единственный случай, когда в дедушкином доме обидели моего отца. После этой истории наша семья переехала в другой дом. Может быть, не сразу переехали и, может, не из-за этой истории, а потому, что, согласитесь, если у тебя на голове, я имею в виду дедушку, сидят еще семь человек, то это чересчур, и надо обзаводиться собственным домом. Но тогда я был ребенком, это было давно, и мне запомнились только самые главные события, они спрессовались во времени, и поэтому история с беженкой, скандал с дядей Иосифом и переезд на новую квартиру соединились в моей памяти в одно событие или в события, которые следовали одно за другим, хотя на самом деле они могли быть отдалены друг от друга.
Мы купили небольшой домишко на соседней улице. Тогда, в гражданскую войну, все пришло в движение: люди разъезжались, съезжались, разбегались, перемещались, – и домик мы купили сравнительно дешево, небольшой домик: зала, две комнаты, кухня, кладовая, – купили удачно в том смысле, что наш двор почти примыкал к дедушкиному двору, я говорю почти, потому что рядом с нами стоял двухэтажный особнячок, в нем жил инженер железнодорожного депо Иван Карлович, из немцев, важный и строгий господин. У Ивана Карловича был большой фруктовый сад, мы перелезали через забор, пробегали по саду, опять через забор – и мы на дедушкином дворе. Иван Карлович был этим недоволен, выговаривал моим родителям, мама нам раздавала подзатыльники, на это она была мастер, а отец, как я уже говорил, никогда не тронул нас и пальцем. Иван Карлович очень сердился на нас, на детей, мы шумели, галдели, доставляли ему много беспокойства, он даже подозревал, что мы таскаем у него яблоки, – эти подозрения были небезосновательными. Однако моим родителям он оказывал большое уважение. Их все уважали, а отец, кроме того, оказался для него интересным собеседником, к тому же свой, фактически немец, они разговаривали только по-немецки, для Ивана Карловича это была хорошая практика, другого человека с таким чистым немецким произношением ему, естественно, было не найти. Иван Карлович снабжал отца книгами из своей библиотеки, тот много читал, через него и мы с братом Левой тоже пристрастились к чтению.
Но, извините, я отвлекся. В последнее время со мной это случается: старые воспоминания перемежаются с новыми мыслями. И чем больше старых воспоминаний, тем больше новых мыслей. Тебе кажется, что ты так думал тогда, а на самом деле так ты думаешь сегодня.
Итак, о чем я? О дяде Иосифе…
Бабушка говорила: «Будет несчастной та женщина, на которой Иосиф женится». Но, представьте, он женился очень удачно, отхватил жену по себе и даже больше, чем по себе. Жена его была зубной врач. А что такое Иосиф? Ничего, бабник, но женщины его любили. Однако врачиха была с характером, живо прибрала Иосифа к рукам и заставила обучиться зубопротезному делу. Как у всех Рахленков, руки у Иосифа были золотые, дело он освоил, изготовлял коронки, мосты, протезы и все, что требовалось для пациентов его жены. Дело золотое в прямом и переносном смысле. В городе были еще два дантиста, но жена Иосифа была лучшим врачом, а Иосиф не только хорошим техником, но и ловким, хитрым, отчаянным и, хотя имел дело с золотом, ничего не боялся, тем более нэп, поставил дело широко, их зубоврачебный кабинет процветал. А когда нэп кончился, они свою лавочку прикрыли, работали в поликлинике, но дома кресло сохранили как бы для друзей и родственников. Но в таком городишке каждый друг или родственник. И у районного начальства тоже есть зубы. И когда зубы болят, то кое на что приходится смотреть сквозь пальцы. Тем более все для тебя делается быстро, хорошо, на высшем уровне. В поликлинике очередь, и, если приходит председатель райисполкома или начальник милиции, она его сажает в кресло, лечит и потом говорит:
– Приходите завтра вечером ко мне домой.
Продолжает его лечить дома, но денег не берет, упаси боже, он ее официальный пациент из поликлиники, никакой частной практики у нее нет, просто делает любезность, оказывает уважение, освобождает от необходимости сидеть в очереди или проходить без очереди, что, согласитесь, тоже не совсем удобно. Ну, а если такое же уважение она оказывает их женам, – это тоже естественно, жены – ее приятельницы: одна – врач, другая – учительница, третья – заведующая библиотекой – словом, районная интеллигенция, ее коллеги и друзья, их она тоже пользует дома и денег не берет. И если они ей делают подарки, приносят торт или коробку шоколадных конфет или привезут из Киева какую-нибудь тряпку, в этом ничего предосудительного нет. В общем, ее домашний кабинет был как бы филиалом поликлиники, по-семейному, по-простому, без формальностей, бюрократизма и волокиты. Но за этим фасадом скрывалась фирма, частным лицам все делалось за деньги, и если у них не было золота для коронок, мостов и протезов, то золото находилось у Иосифа.
Все догадывались, какие деньги загребают Иосиф с супругой, но Иосиф поставил дело ловко, придраться не к чему, и никто придираться не хотел. И хотя Иосиф был отчаянный, бесшабашный, жадный до денег, жена его была женщина осторожная, большая дипломатка и его приучила к осторожности. Иосиф ездил за золотом в Харьков, Киев, Москву, даже в Среднюю Азию, но никогда не попадался, все шито-крыто; у них были золото и драгоценности, все хорошо запрятано, и прекрасный собственный дом, и хорошая обстановка. Каждое лето они отправлялись в Крым или на Кавказ, Иосиф любил красивую жизнь, по-прежнему любил красиво одеваться, и жена чтобы была красиво одета, вкус у него был, не отнимешь, деловой, энергичный – тоже не отнимешь, и семьянин стал примерный. Но никому в жизни хорошего не сделал, все только для себя.
Что касается беженки, то, как я узнал много позже, дедушка разыскал ее в Гомеле, помог ей деньгами, и она вышла замуж, – в общем, дедушка устроил ее судьбу.
Второй сын у дедушки был Лазарь, полная противоположность Иосифу. Фантазер, человек непрактичный, философ, единственный среди Рахленков близорукий, наверно, оттого, что с детства много читал, даже ночью. Залезет на печку, зажжет керосиновую лампу и читает всю ночь. В итоге носил пенсне и слыл человеком образованным, хотя был скорее не образованным, а начитанным и начитанным бессистемно, читал все, что под руку попадется. Видя такую страсть к чтению, дедушка отдал его в Гомель, в гимназию Ратнера, была такая частная гимназия с казенными правами. Но оказалось, что настоящих способностей у Лазаря нет, а есть порок, совершенно необычный в семье Рахленков. Этот порок – лень. Родная мать колет дрова, а он сидит и читает газету, как будто так и надо. Добрый, не эгоист, но лень, понимаете, его одолела, фантазер, мечтатель и неудачник. Сапожник средний, дедушка палкой его выучил, но любил поговорить с заказчиками, поболтать, потрепаться на разные темы, потом работал в артели, на фабрике, сначала в цехе, потом в ОТК. Пригнула его к земле смерть жены. Жена его Тэма, нежная, кроткая, любила Лазаря, прощала ему непрактичность, ничего не требовала, жила на то, что есть. С такой женой Лазарю было хорошо, мог мало работать и много философствовать. Но при рождении ребенка Тэма умерла. Как Лазарь не покончил с собой – не знаю. На сына он не мог смотреть, маленького Даниила выкохал дедушка, отдал в деревню кормилице, между прочим, в деревню Петровку, ту самую, где у него был побочный сын, к тому времени уже взрослый человек, отец семейства. В эту деревню Петровку дедушка чуть ли не каждый день ездил смотреть на внука, как он и что, чтобы все, значит, было в порядке. И вынянчил и вырастил его. Но у Лазаря совсем опустились руки, он стал попивать, и даже дедушка, не терпевший пьяниц, на Лазарево пьянство посматривал сквозь пальцы, понимал – жизнь не удалась.
Третий сын у дедушки был Гриша. Ничего особенного про него рассказать не могу, ничего выдающегося в нем не было. Здоровый, как все Рахленки, первый драчун и забияка на улице, но справедливый: защищал слабых. А что значит защитить слабого? Это значит подраться с сильным. И он навешивал синяки, будь здоров! А когда мальчик приходит домой с синяками, у него спрашивают: кто? И мальчик отвечает: Гриша Рахленко. Кому жалуются родители? Дедушке. А дедушка в таких случаях не разбирался, кто прав, кто виноват. Раз на тебя пожаловались, значит, ты виноват. Ведь чужого сына он наказать не может, а своего может. И разговор короткий – ремень. И Иосифу ремень, и Лазарю, но те прятались, иногда на несколько дней удирали из дома. Гриша не удирал, дедушкиного ремня отведал предостаточно, но никогда не плакал, не просил прощения. Впрочем, он быстро остепенился и стал хорошо работать, к сапожному делу, вообще ко всякому ремеслу у него были способности.
Помню, дяди мои построили во дворе гигантские шаги, такое было тогда увлечение. Гигантские шаги получились настоящие, как в парках и садах, ребята сбегались со всего города. Что делает дядя Иосиф? Делает свой гешефт: берет с каждого по копейке. Дядя Гриша стоит в это время рядом, молча смотрит, как Иосиф собирает копейки, потом спокойно говорит:
– Покажи, сколько ты насобирал.
Берет у Иосифа монеты, пересчитывает и отдает мне:
– Пойди купи на эти деньги конфет и принеси сюда.
Я принес конфеты, и Гриша роздал их ребятам. Иосиф не посмел ему слова сказать, Гриша был хоть и младше, но сильнее его, а с сильными, как вы знаете, Иосиф не связывался.
В пятнадцатом году дядю Гришу мобилизовали в армию, и всю Первую мировую войну он пробыл на фронте, и не как Иосиф, не в музыкантской команде, а в пехоте, в окопах, настоящий солдат, был ранен, контужен; после войны вернулся и опять стал работать по сапожному делу. Со временем из него выработался мастер высокой квалификации, спокойный, трудолюбивый, немногословный и по части техники, очень, знаете, одаренный. В артели, потом на фабрике всегда числился в первых ударниках, в первых стахановцах, но не делал из этого карьеры, от всего отказывался, любил только работу. Когда фабрика расширялась и механизировалась, он внес много ценных рационализаторских предложений. К ним, как бывает, примазывались ловкачи, но дядя Гриша не обращал на это внимания, простодушный, не честолюбивый, интересы производства были у него на первом плане, истинный мастер своего дела, передовик в подлинном значении этого слова. Я лично ему многим обязан. Когда я и мой брат Лева стали работать с отцом и дедушкой, то именно дядя Гриша нас учил. И моего отца тоже терпеливо учил. И если я сказал о дяде Грише, что он был простой, ничем не выдающийся человек, то, может быть, как раз в этом и была его значительность. Он был человек труда и трудового долга, а на таких людях держится мир.
Все дедушкины дети при всех своих недостатках, иногда довольно крупных, все же что-то унаследовали от дедушки: Иосиф – деловитость, Лазарь – доброту, Гриша – трудолюбие, моя мать Рахиль – властность, волю, целеустремленность. Но ни в ком из них характер дедушки не повторился целиком и полностью. И только один сын поднялся до высоты дедушкиного характера, а может быть, и превзошел его, потому что попал в гущу великих исторических событий и был их участником. Этим сыном был дядя Миша, младший из дедушкиных сыновей и младший из моих дядей.
Мне уже за шестьдесят, и дяди Миши давно нет на свете, он погиб, когда я был мальчишкой, но он озарил мое детство незабываемым светом, дал мне нечто, что я пронес через жизнь. И он стоит перед моими глазами как живой: широкоплечий, бесстрашный, с чеканным загорелым монгольским лицом и добрыми, чуть раскосыми глазами.
Во всех Рахленках было что-то монгольское, а в дяде Мише особенно. Откуда это взялось? Честно говоря, понятия не имею.
Увлечением дяди Иосифа были голуби, Лазаря – книги, увлечением дяди Миши были лошади. Проскакать на коне в казацком седле, в кавалерийском седле, без седла – за то он готов был душу отдать: война, через город проходили кавалерийские части, становились на постой, дядя Миша дружил с кавалеристами и научился не хуже их самих управляться с лошадьми.
Именно с лошадей началась военная карьера дяди Миши. В восемнадцатом году с кавалерийским эскадроном он ушел на фронт. Записался добровольцем, дали ему коня, и он провоевал всю гражданскую войну. Фронт проходил по всей России, и дядя Миша исчез из нашего поля зрения и превратился в легенду. Приходили от него редкие и короткие письма – представляете почту того времени. Письма не сохранились, из них мне запомнилась только одна фраза: «Домой не ждите, пока не возьмем Варшаву». Он служил в конном корпусе Гая. Корпус Гая наступал на Варшаву… У нас дядя Миша появился неожиданно, в кавалерийской шинели, папахе, шпорах, перетянутый ремнями, с шашкой на боку, герой гражданской войны, кавалер ордена Красного Знамени, тогда это много значило.
Разукрашен он был как картинка; может быть, мне это тогда казалось, а может, так оно и было в самом деле. Шашка, папаха, ремни, шпоры, его кони, выезды – все это мне, прошедшему суровую Отечественную войну, теперь кажется несколько наивным. Но тогда это было в моде, было нормой: любили пощеголять, особенно у нас, на юге, и особенно такие рубаки и партизаны, как дядя Миша.
Надо ли говорить, как мы все, начиная с дедушки и кончая нами, внуками, гордились дядей Мишей, я уже не говорю о бабушке: она в нем души не чаяла. Сын сапожника Рахленко из маленького города на Черниговщине – и вот пожалуйста, такой герой, не какой-нибудь унтер-офицер, вроде Хаима Ягудина, а, можно сказать, красный генерал; в доме полно оружия, в конюшне стоят кони, каких не видел мир, и наш сосед, шорник Сташенок, готовит для них особенную сбрую. Мы ходили за дядей Мишей: куда он, туда и мы. Из нашего города вышли довольно крупные политические деятели, но мы о них ничего не знали, они были далеко – в Москве, в Петрограде, а дядя Миша был здесь, перед нашими глазами.
Он продолжал служить в армии, хотя жил в Чернигове. Кем он там был, мне не совсем понятно: то ли командовал какой-то воинской частью, то ли был членом Военного трибунала, не то тем и другим вместе. В общем, видный человек в Чернигове. И вот как-то он приезжает к нам в город на денек-другой повидать родных. Бедняга, зачем он приехал? Он за смертью своей приехал…
Разруха, не было твердой валюты, деньги считались на миллионы, а кому они нужны, эти миллионы? Бумажки! Крестьянин их знать не хотел. Район наш, как я уже рассказывал, скотоводческий, а как покупать скот, если крестьянин этих миллионов не берет? Мясники покупали скот на старые царские золотые монеты, а в то время это преследовалось как спекуляция золотом, три человека попались, сидели в тюрьме в Чернигове, и им грозил расстрел. К кому кинулись их родные? Конечно, к бабушке Рахленко. Ведь ее сын – главный начальник в Чернигове, неужели он не выручит своих, можно сказать, земляков, отцов семейств, допустит, чтобы их дети остались сиротами? И тут, как на грех, как нарочно, приезжает дядя Миша.
Бабушка ему говорит:
– Освободи этих людей.
Он отвечает:
– Я не могу этого сделать.
Но она умоляет, просит, требует, добрая женщина, но не понимает, на что толкает сына, не понимает, что ему грозит.
– Если их расстреляют, – говорит бабушка, – то нам здесь оставаться нельзя, мы должны отсюда уехать, должны бросить родное гнездо и скитаться не знаю где. Здесь я не смогу смотреть людям в глаза.







