
Ричард Хелли
История крепостного права на Руси. Предпосылки и основные этапы лишения крестьян личной свободы. XIV—XVII века


© Перевод и издание на русском языке, ЗАО «Центрполиграф», 2022
© Художественное оформление, ЗАО «Центрполиграф», 2022
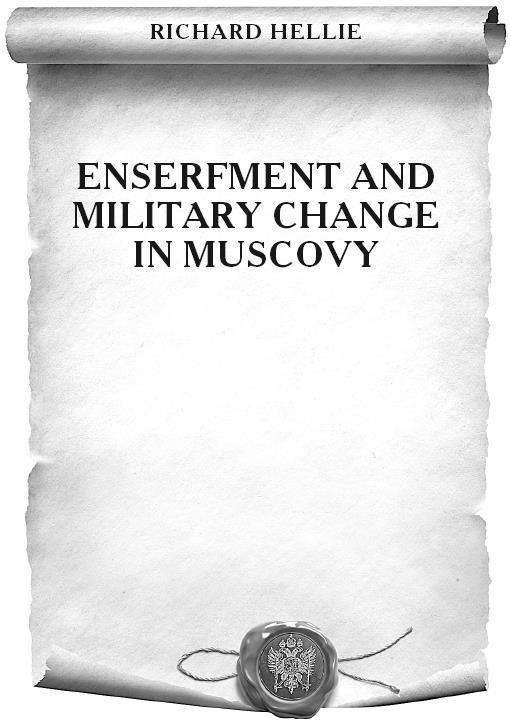

Введение
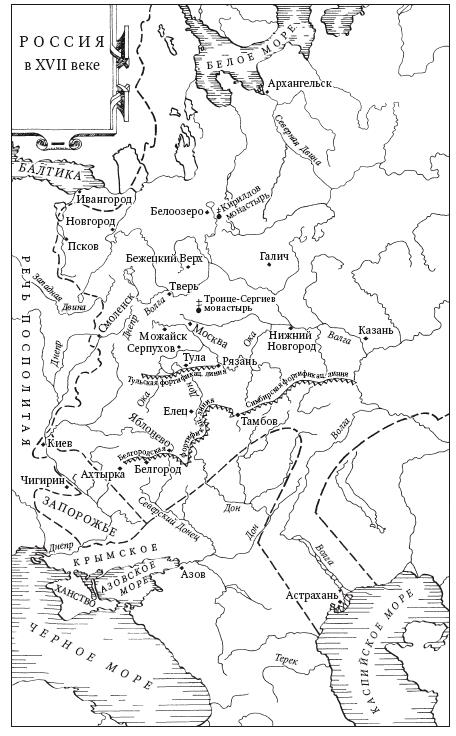
Эволюция крепостного права – самый важный, наиболее изучаемый и самый противоречивый вопрос российской истории. Хотя по этой теме найдено и опубликовано множество материалов, плодотворная архивная работа все еще продолжается. Результаты этой работы позволяют более точно обобщить причины возникновения этого фундаментального института российской истории.
Историки связывают происхождение крепостного права с разными причинами и временами, начиная с периода предполагаемого варяжского завоевания в IX в. до реформы Петра Великого в первой четверти XVIII в. В результате более чем столетнего исследования возникли две широко известные интерпретации эволюции крепостного права. Их можно обобщить под названиями «указной» и «безуказной» версии. Поскольку четко выраженная историография взгляда на закрепощение русского крестьянства не была написана, в предоставляемом читателю обзоре приводится контекст, в котором проводилось настоящее исследование. Я также укажу на версии, которые, по имеющимся свидетельствам, как оказалось, не выдерживают критики.
Приверженцы законной, или «указной», концепции считают, что крестьяне как масса не были, по сути, закрепощены (ни по закону, ни по факту) до выхода Соборного уложения 1649 г., и закрепощение крестьян произошло только после ряда последовательных действий, предпринятых государственной властью на протяжении двух столетий. Российский историк В.Н. Татищев взялся за исследование этой концепции в XVIII в. и, изучив указы 1550, 1597, 1601, 1602 и 1607 гг., пришел к заключению, что такой указ, запрещавший крестьянам переходить от одного землевладельца к другому, должно быть, вышел в 1592 г. Н.М. Карамзин принял «указную» версию Татищева за более или менее достоверный факт. Вопрос оставался на данной стадии с 1820-х до конца 1850-х, когда стал открытым для предварительного обсуждения правительством закон об отмене крепостного права 1861 г. «Указную» версию можно найти в фундаментальном труде «История России с древнейших времен» С.М. Соловьева, а также в специальных трудах Б.Н. Чичерина, Н.И. Костомарова и И.Д. Беляева. Аргументы Беляева и Костомарова частично послужили основой дебатов закона об отмене крепостного права: если государство закрепостило крестьян, тогда государство должно было их освободить.
В период между эпохой отмены крепостного права и началом следующего столетия «указная» версия неуклонно теряла поддержку и практически исчезла из исторической литературы. Невозможность найти какие-либо веские доказательства правительственным действиям делало эту точку зрения все менее убедительной, чтобы настаивать на том, что государственная власть не принимала участия в закрепощении крестьян. И тем не менее историк В.И. Сергеевич и его ученик Н.Н. Дебольский, основывая свои утверждения на трудах Татищева и других историков, продолжали, по сути, придерживаться старой позиции. Сергеевич предпочел выбрать более раннюю дату 1584 или 1585 г. выхода предполагаемого государственного указа о закрепощении крестьян. Эти историки придерживались мнения, что крестьяне оставались свободными во всех отношениях до тех пор, пока государство не обнародовало предполагаемый указ, за которым последовали и другие указы. Правительственные действия, завершившиеся принятием Соборного уложения 1649 г., рассматривались как продиктованные государственными потребностями, в первую очередь необходимыми для поддержки армии. В свете доступных в настоящее время свидетельств «указная» концепция представляется верной.
Альтернативная «безуказная» версия состоит из нескольких частей, с достоинствами которых согласятся далеко не все приверженцы основной «безуказной» версии. Эта концепция, отрицавшая, что государство играло главную роль в закрепощении крестьянства, была выдвинута М.М. Сперанским, общественным и государственным деятелем первой половины XIX в. До отмены крепостного права эта концепция была принята консерватором М.М. Погодиным, как считается, для того, чтобы снять вину с государства за закрепощение крестьян и даже необходимость что-либо предпринять для улучшения их бедственного положения. В своей статье «Должно ли считать Бориса Годунова основателем крепостничества?» Погодин дает отрицательный ответ на этот вопрос и заявляет, что Годунов не издавал указа, запрещавшего крестьянам переходить с одного места на другое. «Обстоятельства», само «течение жизни», а прежде всего «национальный характер» считались ответственными за возникновение крепостничества. На эту статью последовал ответ Костомарова, после чего развернулась непрекращающаяся дискуссия. Некоторые историки XIX столетия считали Погодина родоначальником «безуказной» (или обусловленной средой) версии, но последние исследования показали, что он был знаком с работой Сперанского. Эта концепция, в более рафинированном виде, была принята большинством досоветских историков, таких как В.О. Ключевский, П.Н. Милюков, М.А. Дьяков, А.С. Лаппо-Данилевский, С.Ф. Платонов и А.Е. Пресняков.
Утверждение Погодина о непричастности государства к закрепощению крестьян завоевало мало приверженцев среди историков, серьезно изучающих эту проблему, но это сделали последующие уточнения его аргументов. Эти уточнения начинаются с книги о статусе крестьянства юго-запада России в Литовском праве XV и XVI вв., опубликованной в 1863 г. в Киеве Ф.И. Леонтовичем. Впоследствии его вывод о том, что литовское закрепощение произошло в результате слияния задолженности и «длительного проживания» или старожильства, был применен и к московскому крестьянину. Это привело к интеллектуально плодотворному, но в конечном итоге разочаровывающему поиску причин закрепощения, поиску, которому надлежит стать наглядным уроком для сторонников сравнительной истории. Аналогии могут предложить на первый взгляд верные объяснения при отсутствии данных, но интерпретации, основанные на таких аналогиях, должны уступить место, когда обнаруживаются факты.
В 1880 г., однако, до того как русские ученые взялись за серьезное изучение приведенного Леоновичем примера с Литовским правом, профессор Дерптского университета И.Е. Энгельман, российский правовед и исследователь правовой науки, опубликовал свой тезис «Entstehung und Aufhebung der Leibeigenschaf in Russland»[1]. Энгельман пишет, что в конце XVII в. земельные кадастры связывали крестьянина таким образом, чтобы доход казны от ее налогоплательщиков был защищен. Он также пишет, что на протяжении XVI в. землевладельцы имели право обращаться в суд с требованием вернуть крестьян, которые были зарегистрированы в кадастрах или сбежали из их поместья. В XVII в. целый ряд отдельных правоотношений постепенно были объединены с целью закрепощения крестьян, процесс, который завершился Соборным уложением 1649 г.
Прецедентная версия была предложена и опубликована в 1885 г. в труде В.О. Ключевского. В этой работе можно проследить идеи Энгельмана, но к основным нововведениям следует отнести наблюдение Леоновича о том, что главной причиной закрепощения крестьян на Великой Руси являлась задолженность и что это закрепление носило в основном личный характер. Крепостное право в России не было введено государством, но установилось лишь при частичном содействии государства. Экономические проблемы во второй половине XVI в. вынудили традиционно свободных в переходе русских крестьян, особенно в центральной части Московского государства, брать ссуду у землевладельцев для того, чтобы продолжить свою сельскохозяйственную деятельность. К концу XVI в. (если не раньше) невозможность выплатить ссуду связывала крестьян-должников со своими землевладельцами. В первой половине XVII в. статус такого крестьянина сливается с кабальным холопом, и последующие указы лишь узаконивают то положение, которое фактически уже существовало в жизни. Этот новый вариант «неуказной» концепции закрепощения крестьянства остается той частью российской историографии, с которой всем историкам приходилось иметь дело. Ниже я предварительно приведу некоторые аргументы против интерпретации крепостничества, основанной на задолженности.
Еще одну важную часть тезиса Леонтовича составляет его утверждение, что долговременное проживание, старожильство, также способствовало закрепощению русско-литовских крестьян. Статья 13 в 12-й главе Статута Великого княжества Литовского 1588 г., свода законов, который, как известно, оказал значительное влияние на Россию, определяет старожильца как субъекта, прожившего на одном и том же месте десять лет к ряду или более; на такого субъекта перестает распространяться право свободы выхода. Русские часто заимствовали из жизненной практики и законодательства Великого княжества Литовского. Леонтович делает предположение, что неким образом статус московского крестьянина совмещается со статусом крестьянина литовского. Русский историк М.Ф. Владимирский-Буданов первым отметил категорию старожильцев среди русского крестьянства, однако он не утверждал, что только это обстоятельство привело к массовому закрепощению крестьян. Старожильство на Руси существовало и в XV в., и, в соответствии с этой интерпретацией, крестьяне не могли сниматься с места уже давно. По обычаю, их рассматривали как принадлежащих тому месту, где они жили. Таким образом, крестьяне в Московии потеряли право свободного перехода из-за того, что не использовали его, и со временем ситуация де-факто закрепилась де-юре. Принято считать, что такая форма закрепощения распространилась на землях, входящих в Московское государство, во второй половине и в конце XV в. В ответ на прошения землевладельцев (в основном монастырских) правительство постановило, что такие крестьяне, будучи прикрепленными к земле обычаем, формально не имеют права переходить в другое место. Позже М.Ф. Владимирский-Буданов суммировал факторы, которые могли превратить субъекта в старожильца: длительное проживание на одном месте, рождение в семье, которая долгое время проживала на одном месте, рождение в семье крестьянина и перемещение от одного землевладельца к другому по совершению частной сделки между землевладельцами, уплата налогов длительное время в одном месте. Эта «безуказная» версия закрепощения крестьян по причине старожильства также оказалась весьма устойчивой и даже использовалась некоторыми советскими историками, хотя и без особого успеха.
Как и следовало ожидать, вскоре появились попытки соединить теорию о задолженности Ключевского с гипотезой старожильства Владимирского-Буданова. Эта роль досталась историку М.А. Дьякову. Он развил теорию Ключевского и Владимирского-Буданова весьма интересным образом. Ученый-историк М.К. Любавский, считавшийся одним из выдающихся дореволюционных синтезаторов истории раннего периода России, принял эту версию.
П.Н. Милюков объединил теории Энгельмана, Ключевского и Дьякова и отнес крепостное право к трем явлениям: закрепление крестьян за их налоговым статусом; долгожительство; рост задолженности, которую землевладельцы использовали для «опутывания» крестьян.
Однако эта версия не выдержала пристального рассмотрения. Историки, изучавшие теорию задолженности, послужившую причиной закрепощения крестьян в России, привлекли внимание к тому, что ни в одном московском первоисточнике никогда не говорилось, что погашение долга всегда являлось непременной предпосылкой для перемещения (отказа), платили ли крестьяне долг самостоятельно (выход) или с какой-либо внешней помощью (вывоз). И в самом деле, недавно обнаруженные новгородские берестяные грамоты, такие как Псковская судная грамота, сообщают нам, что крестьяне-должники могли перемещаться круглый год. Более того, не было доказано, что обыкновенный землевладелец мог иметь какие-либо претензии к крестьянину-должнику, кроме как возвращение займа: кредитор мог судиться за деньги, но не за личность крестьянина. Более того, в конце 1570-х (а местами даже позже) крестьяне по всей России могли по-прежнему свободно переходить. Когда правительство передавало земли от одного владельца к другому, нигде не упоминалось о задолженности крестьян, проживающих на этой земле. Если бы долги имели массовое значение, наверняка были бы предусмотрены какие-то постановления для их погашения, прежде чем кредитор потерял связь со своим должником. Тут возникает вопрос, насколько всеобщей была практика получения ссуды – вопрос, который никогда досконально не обсуждался. И наконец, С.Б. Веселовский делает наблюдение, что не имеется каких-либо свидетельств роста задолженности крестьян за этот период времени, как можно было бы предположить, если бы задолженность являлась фактором изменения положения московских основных производителей.
В.И. Сергеевич, комментируя теорию Ключевского, давно отметил, что московское законодательство строго отделяло поступавших в холопство по особому договору (ряду), (кабальное холопство) от крестьян и в принципе не позволяло последним становиться первыми. Поэтому слияние крестьян с холопами из-за одного только долга было бы крайне сложным. Исследования историографа В.М. Панеяха поставили под сомнение утверждение, что крестьяне, бравшие ссуды у своих господ, относились даже к той же категории, что и люди, продававшиеся в холопство. Если Панеях прав, то теория Ключевского о том, что в первой половине XVII в. крестьяне начали сливаться с этим видом холопов из-за схожести их статуса должников, становится еще слабее. (Не приходится сомневаться, что в XVII в. статус крестьянина и холопа действительно слились в определенном отношении, как это будет показано в главе 5.)
Можно привести весьма убедительный аргумент в пользу того, что чаще всего крестьянская задолженность возникла в результате закрепощения, а не являлась его причиной. С.И. Тхоржевский, российский и советский историк, обобщил минимальный вывод, который следует сделать из аргументов против толкования задолженности: либо крестьянская задолженность была явлением сравнительно редким, либо она не являлась фактором их закрепощения. И последнее свидетельство неубедительности теории задолженности состоит в том, что в конечном счете она приводит описание процесса прикрепления крестьян к земле, а не анализ основных причин этого прикрепления.
Теория старожильства также подверглась резкой критике. Некоторые скептики опровергли эту теорию, задавшись вопросом, действовала ли эта концепция везде или, наоборот, применялась только конкретными землевладельцами. Сергеевич в своем едком обзоре обобщения Дьяконова 1898 г. «Очерки из истории сельского населения» отрицает, что старожильство являлось правовой концепцией или институтом, применимым при определении статуса крестьянина. Последние исследования убедительно доказывают несостоятельность всей теории и показывают, что старожилец являлся не более чем личностью, чьи показания, в силу его осведомленности, годились для использования в качестве доказательства в судебных процессах при отсутствии документов.
Принимая во внимание явную несостоятельность версии «безуказного» закрепощения, некоторые историки делали попытки исправить или пересмотреть обобщения Дьякова. Наиболее доблестное усилие предпринял молодой дореволюционный ученый П.Е. Михайлов. Он убедительно опроверг «догадку» Дьякова о том, что старожильство и задолженность были между собой связаны. Михайлов выразил сомнение, что феодалы Московии были или могли быть так щедры на ссуды, как предположил Дьяков. Более того, он пишет, что должники в Московии не являлись старожильцами, а были новопоселенцами, только начинающими заниматься сельским хозяйством и, следовательно, нуждавшимися в помощи своего хозяина.
Под влиянием работы Фустель Куланжа (французского социолога) Le Colonial romain, Михайлов соглашается с Владимирским-Будановым, Дьяковым и Лаппо-Данилев-ским, что старожильцы были ограничены в своих правах перехода раньше других категорий крестьян. Михайлов рассматривает старожильцев как достигших успеха арендаторов, а институт старожильства – как результат «хорошей жизни». Этот институт возник, по его мнению, не из необходимости защиты частных интересов землевладельцев. Под влиянием Льва Петражицкого, русского и польского правоведа, социолога и философа, Михайлов изображает институт старожильства как результат осознанного повышенного интереса крестьян к общественному социальному и правовому экономическому укладу, который мотивировал, даже «учил» их оставаться на своих местах, несмотря даже на тяжелые времена, и усердно трудиться на земле, дабы поддерживать жизнь и развивать культуру.
Несмотря на явные недостатки, «безуказная» версия в целом принималась как «правильная» среди дореволюционных историков. Именно эта концепция, в особенности ее акцент на задолженности, имела тенденцию преобладать в американских познаниях о процессе закрепощения крестьянства в России, в основном благодаря престижу и доступности «Курса русской истории» Ключевского.
Фундаментальный недостаток «безуказной» версии состоял в том, что ее сторонники сначала не осознавали, а затем преуменьшали значение «заповедных лет» – тех лет, когда правительственный указ запрещал крестьянам перемещаться. Первый соответствующий документ по этому вопросу был опубликован в 1894 г., позже вышли и другие (см. главу 4). Это было очевидное действие со стороны государства, которое приверженцы «безуказной» версии не могли игнорировать. До 1917 г. предпринималось несколько попыток сделать новые открытия в истории крепостничества. Именно в это время Д.М. Одинец, профессор русского права, выдвинул концепцию, что введение заповедных лет отменило право крестьян на выход.
Невзирая на новые доказательства, большинство авторов продолжали придерживаться «безуказной» версии. Первый автор статьи о заповедных летах, С.А. Адрианов, попытался связать их с гипотезой старожильства Дьякова. Почти 20 лет спустя П.Е. Михайлов решил использовать новые документы в своей новой интерпретации старожильства. Отрицая наличие реально имевшего значение указа, он начал с того, что было принято считать, будто запрет на перемещение исходил от царя задолго до 1582 г., тогда как на самом деле закрепление крестьян произошло естественным образом. Более того, правительственного указа и не могло быть, поскольку «законодательное творчество было полностью вне возможности законов того времени». М.А. Дьяков опровергает этот аргумент, указывая на то, что пресечение выхода являлось сознательным запретом и что ничего не связывало этот запрет со старожильством. Однако после анализа всей литературы и источников, связанных с заповедными летами, Дьяков приходит к поразительному заключению, что право свободного перехода крестьян умерло без его юридического упразднения.
После революции историк С.Ф. Платонов, придерживавшийся консервативных взглядов, использовал заповедные лета в своем историческом труде, частично переняв «указную» версию, в которой ответственность государства за прикрепление крестьян в интересах государственной казны и военного сословия играла главенствующую роль. Он предположил, что временные указы применялись на протяжении такого длительного периода времени, что право на «выход» отмерло без всеобщего упраздняющего указа. Однако он не отрицал, что такой указ мог существовать, и считал, что главная историческая задача состоит в том, чтобы отыскать этот указ. Платонов стал первым историком, который четко сфокусировал внимание на условиях, приведших к государственному вмешательству в крестьянский вопрос. Придав новый поворот старой интерпретации и совместив результаты своих исследований с очевидными фактами, Платонов выдвинул предположение, что старожильство как на крестьянской, так и на помещичьей земле юридически возникло из-за привязки крестьян к налоговой ведомости через регистрацию в кадастрах, а не из-за задолженности или же правового обязательства.
За инициативой Платонова лишь частично последовали историки, работавшие в 1920-х гг. Ю.В. Готье, российский и советский историк, принял во внимание крестьянскую задолженность, но возложил запрет крестьянского выхода на государство. Он, по сути, игнорировал значение заповедных лет и пришел к заключению, что Борис Годунов не закрепощал крестьян. С.И. Тхоржевский, учитывая значение заповедных лет, возлагал на них цель сохранения земельного фонда для военного сословия. Эти лета не являлись «решающими» в закрепощении крестьянства, поскольку они были явлением временным и действовали только в связи с земельным кадастром, составленным для привязки крестьян к налоговому статусу. Он пришел к заключению, что право крестьян на выход никогда официально не отменялось общим указом.
И.М. Кулишер, российский публицист, юрист и правовед, в значительной степени полагаясь на западноевропейские аналоги, настаивал на том, что теория задолженности Ключевского – Дьякова, которая «повсеместно признается правильной», все еще жизнеспособна. Крестьяне были закрепощены не каким-то особым государевым указом, а скорее целым рядом экономических обстоятельств. Эти обстоятельства создали, а затем усилили власть помещиков – служилого военного сословия – над крестьянином в основном за счет задолженности, прикрепившей его к кредитору. Одновременно с этим старожильство, в соответствии с обычным правом, прикрепляло крестьянина к земле, так что право на выход умерло само по себе, без какой-либо прямой или косвенной юридической отмены.
Вряд ли более оригинальной можно считать интерпретацию, выдвинутую марксистом Н.А. Рожковым. Он отрицает обнародования в конце XVII в. какого-либо указа, закрепощавшего крестьян, и отмечает, что они по-прежнему пользовались законным правом перехода от одного помещика к другому. Долги, которые они не могли оплатить, ограничивали их свободу, но это не отнимало у них права на переход и не закрепощало их. Однако привязка к статусу в кадастрах, старожильство и задолженность, объединенные вместе, перевели старожильцев в статус крепостных, хотя бы условно. Эти события во второй половине XVI в. послужили лишь единичными правовыми прецедентами. В первой половине XVII в. крепостное право было наконец установлено юридически: в договоре со своим господином крестьяне отказались от своих прав, задолженность возросла, и произошло слияние статуса холопа и крестьянина. Как задолго до этого писал Ключевский, все это было окончательно санкционировано законом в Соборном уложении 1649 г.
В отношении крепостничества М.Н. Покровский, советский историк-марксист и политический деятель, «глава марксистской исторической школы в СССР», оказался поразительно неоригинальным. Находясь под влиянием тезисов Ключевского о неузаконенном слиянии статуса крестьянина-должника и статуса холопа, он заявил, что крестьянам было запрещено переходить просто по той причине, чтобы ограничить споры из-за них. Это была одна из бесплодных попыток, предпринятая с целью совместить несовместимое. В других работах он попытался создать «материалистическое» объяснение закрепощению, которое иногда рассматривал как следствие введения трехпольной системы сельского хозяйства, то есть как следствие «торгового капитализма». Под конец своей карьеры, после того как в стране началась индустриализация и коллективизация, он уделил большое значение «прямому вмешательству государства» в вопросе о закрепощении крестьян.
Наиболее любопытный анализ закрепощения крестьянства был проведен в 1920-х гг. Б.Д. Грековым, вскоре сменившим Покровского в качестве главы марксистской исторической школы. Он создал совмещенную материалистическую и «указную» версию крепостничества. С одной стороны, пишет Греков, в сельском хозяйстве произошли изменения. В XV в. и начале XVI в. русские землевладельцы почти не имели земли под возделывание для своего пользования; они довольствовались получением ренты с крестьянина на своих землях, в основном натурой. Но в первой половине XVI в. помещики начинают возделывать больше своей земли для самих себя за счет крестьянской земли; они также начинают требовать с крестьян отработку барщины и все чаще сбор ренты деньгами. К 1580-м гг. уже действует в высшей степени эксплуататорская барщинная система. Исходя из своего желания добыть деньги, дабы приобрести предметы роскоши и другие товары на рынке, «помещик объявляет своим крестьянам экономическую войну». Эта новая система вкупе с внешними факторами низводит огромное число крестьян до уровня сельского пролетариата. Эти бобыли[2] подчинялись хозяину и, таким образом, находились в его экономической и внеэкономической власти. В совокупности все эти события подорвали положение крестьянина, понизив его до статуса, близкого к крепостному.
В добавок ко всему Ливонская война при Иване Грозном (1558–1583) привела к экономическому кризису, который «усугубил и осложнил развитие всеобщего экономического процесса». В результате кризиса государство запретило всем крестьянам «выход», дабы сохранить среднее служилое сословие[3]. Действие государства совпало с «естественным экономическим процессом», и после 1581 г. российский крестьянин стал крепостным. Заняв пост лидирующего историка эпохи сталинизма, Греков в значительной степени изменил свои воззрения, как это будет показано далее. Во втором разделе своей работы по закрепощению крестьянства, большая часть которой посвящена опровержению возражений Дьякова против результативности заповедных лет, мы находим резкий поворот от «безуказной» версии назад к старым воззрениям, что на самом деле решающую роль в закрепощении крестьян сыграло государство.
Существуют и другие интерпретации «указной» и «безуказной» теорий, которые можно резюмировать в утверждении, что по той или иной причине российский крестьянин на протяжении практически всей летописной истории являлся крепостным. Так, Д.Я. Самоквасов писал, что на Руси, как и на Западе, не существовало законов, закрепощавших крестьян. Крестьяне стали крепостными в результате завоевания (в данном случае варягами), что привело к налогообложению покоренного населения в 946 г. в Киеве и в 1034 г. в Новгороде. Это «закрепощение», воплотившееся в том факте, что крестьяне должны были платить налоги, продолжилось и во времена монгольской переписи населения, а затем и московской переписи на том основании, что зарегистрированный крестьянин должен был платить налоги и оказывать услуги (платить оброк и отрабатывать барщину). Самоквасов рассматривает эти обязательства как вид крепостничества. Законодательство XV и XVI вв. применялось только в отношении свободных людей – тех, кто был освобожден, кто эмигрировал в Россию из других стран и изгоев[4]. Остальные народные массы никогда не пользовалось правами свободного перехода.
Взгляды на повсеместность крепостного права на протяжении большей части российской истории преобладали почти во всех советских исторических трудах, в особенности с начала 1930-х гг., когда советская историография «перешла на новые марксистские рельсы». Однако в 1924 г. И.М. Кулишер признал концепцию Самоквасова (которую ранее отрицал) и сам объявил, что в истории российского крестьянства не существовало двух периодов, как считало большинство историков: первый – свободный, второй – крепостной; скорее всего, создавшиеся более поздние условия и были истинным положением русского крестьянина на протяжении всей истории. Советские ученые отвергали как «указную», так и «безуказную» версию как несостоятельную.
Многие советские историки и их последователи за рубежом утверждали, что вся летописная история России до 1861 г. была «феодальным» периодом и что крепостничество составляет неотъемлемую составную часть феодализма, а следовательно, российский крестьянин до самого 1891 г. всегда был крепостным. Этот силлогизм служил основным предположением советской историографии на протяжении почти сорока лет и заслуживает более пристального рассмотрения.
Все дискуссии в советское время опирались на ленинский канон, в частности на высказывания в адрес народников в работе «Что такое друзья народа и как они воюют против социал-демократов?». В 1912 г. Ленин определил феодализм как «крупное землевладение и преимущество землевладельцев над крепостными». Это определение 1912 г. служило частью политической тирады перед революцией, но каждый советский историк должен был с ним считаться.
В настоящее время определение феодализма более сложное. Феодализм является третьей стадией в истории человечества, необходимой общественной и экономической формацией, всеобщим этапом исторического развития, охватывающим правовые, политические, экономические и социальные отношения. Это форма организации производства и распределения, а также состояние человеческого духа. Арендные отношения рассматриваются как краеугольный камень феодализма. Советско-марксистская медиевистика рассматривает феодализм как социально-экономическую формацию, основанную на господстве крупного земельного владения и феодальной земельной ренте как форме эксплуатации феодально-зависимых крестьян-держателей, самостоятельных хозяев, которая осуществлялась методами внеэкономического принуждения, основанными на родовых формах государственного устройства. Ремесленное производство, при котором средства производства принадлежат самим ремесленникам, также считается чертой феодальной экономики. Другой отличительной характеристикой феодализма является тот факт, что производственные силы развиты в достаточной степени, чтобы обеспечивать производителям возможность жить, а также удовлетворять потребности эксплуататоров, таким образом обходя более грубую эксплуатацию стадии рабства. В условиях изначальной гегемонии частной, крупнопоместной системы собственности (при капиталистической частной собственности) имеются две основных фазы: первая – доминирование системы всеобщих отношений личной зависимости между лицами, выполняющими общественные функции: система вассал – крепостной (монархия – сюзеренитет); затем следует система «универсального гражданства» (абсолютная монархия).
Н.П. Павлов-Сильванский стал первым историком, который постулировал феодализм в России[5]. После революции М.Н. Покровский, последователь Павлова-Сильванского, впервые разработал советско-марксистское понимание феодализма на Руси и проследил его происхождение и основные причины (крупное землевладение) до XIII в. Главным защитником в советской историографии существования феодализма на Руси был С.В. Юшков, еще один последователь Павлова-Сильванского. (В 1938 г. Юшков попытался модернизировать теорию задолженности Ключевского – Дьякова, которая обсуждалась выше.)


