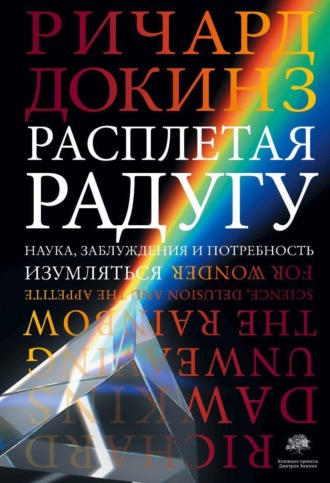
Ричард Докинз
Расплетая радугу. Наука, заблуждения и потребность изумляться
Здесь я бы попытался найти точку соприкосновения с самым известным в Британии газетным критиком науки Саймоном Дженкинсом, бывшим редактором “Таймс”. Дженкинс – более опасный противник, чем все, кого я цитировал до этого, поскольку он знает, о чем говорит. Он охотно соглашается с тем, что научная литература может быть источником вдохновения, но негодует по поводу того важного места, какое отводится естественным наукам в современных программах обязательного образования. В нашей с ним записанной на пленку беседе Дженкинс сказал:
Из тех научных книг, что я прочел, очень немногие я мог бы назвать полезными. Потрясающими, чудесными – да. Благодаря им я действительно почувствовал, что окружающий меня мир намного полнее, удивительнее, прекраснее, чем я когда-либо мог себе представить. Для меня это было чудом науки. Вот почему научная фантастика по-прежнему завораживает людей. Вот почему ее поворот в сторону биологической тематики выглядит таким захватывающим. Я думаю, что у науки есть немало занимательных историй, чтобы рассказать нам. Но наука не полезна. Не полезна в том смысле, в каком полезен курс предпринимательства или юриспруденции, или даже политики и экономики.
Представления Дженкинса о бесполезности науки настолько не лезут ни в какие ворота, что я просто обойду их молчанием. Обычно даже самые суровые критики науки признают, что она полезна – возможно, даже слишком, – и в то же время упускают из виду более важное утверждение Дженкинса: что наука бывает восхитительна. По их мнению, наука в своей утилитарности подрывает основы нашей человечности и разрушает ту атмосферу тайны, из которой, как иногда полагают, рождается поэзия. Еще один серьезный британский журналист, Брайан Эппльярд, писал в 1992 году, что наука наносит “ужасающий духовный ущерб”. Она “заговаривает нам зубы, чтобы мы отказались от самих себя, от подлинных себя”. Все это возвращает меня к Китсу с его радугой и подводит нас к следующей главе.
Глава 3
Звездный штрихкод
И прежде никогда
Дрожащей радуги весенние оттенки
Не услаждали глаз мой, как теперь,
Когда мне указала длань науки
На солнца заходящего лучи,
Встречающие тучу на востоке.
Они струятся сквозь ее туман,
Сквозь каждую из мириад росинок,
Толпящихся у света на пути,
И, наконец, от вогнутой их стенки
Отталкиваясь, вновь спешат лучи
Навстречу той сверкающей громаде,
Откуда брал начало весь их путь.
И если вдруг на этом возвращенье
Случайно их застигнет чей-то глаз,
То, разойдясь по полосам различным,
Они совьют венок из всех цветов:
От пышной розы до фиалки бледной.
Марк Эйкенсайд, “Услады воображения” (1744 г.)
В декабре 1817 года английский живописец и критик Бенджамин Хейдон представил Джона Китса Уильяму Вордсворту за ужином в своей лондонской мастерской, где также присутствовали Чарльз Лэм и прочие представители литературных кругов. На видном месте была выставлена новая картина Хейдона, изображавшая вход Христа в Иерусалим, с фигурами Ньютона, верующего, и Вольтера, скептика. Лэм, напившись, стал упрекать художника за то, что тот нарисовал Ньютона, – “этот парень не верил ни во что, если только это не было так же ясно, как три стороны треугольника”. Китс поддержал Лэма: Ньютон, по его мнению, уничтожил всю поэзию радуги, сведя ее к преломлению света, проходящего сквозь призму. “Спорить с ним было бесполезно, – писал Хейдон, – и все мы выпили за здоровье Ньютона и за то, чтоб математике пусто было”. Много лет спустя Хейдон вспомнит этот “нетленный ужин” в своем письме к Вордсворту – тому из собутыльников, кто еще оставался в живых.
А помнишь ли, как Китс предложил тост “чтоб памяти Ньютона пусто было”? А когда ты, прежде чем выпить, стал требовать объяснений, ответил: “Это за то, что он разрушил поэзию радуги, сведя ее к какой-то призме”. Эх, дорогой мой старина, никогда нам с тобой больше не видать таких деньков!
Бенджамин Хейдон, “Автобиография и воспоминания”
Через три года после ужина у Хейдона Китс писал в своей внушительных размеров поэме “Ламия” (1820 г.):
От прикосновенья
Холодной философии – виденья
Волшебные не распадутся ль в прах?
Дивились радуге на небесах
Когда-то все, а ныне – что нам в ней,
Разложенной на тысячу частей?
Подрезал разум ангела крыла,
Над тайнами линейка верх взяла,
Не стало гномов в копи заповедной…[20]
Вордсворт лучше относился и к науке, и к Ньютону, чей разум “вечно бороздил необозримый мысли океан”[21]. Более того, в своем предисловии к “Лирическим балладам” (1802 г.) он предвидел то время, когда “сложнейшие открытия химиков, ботаников, минералогов станут такими же неотъемлемыми темами поэзии, как и любые другие”[22]. Его соавтор Сэмюэл Тейлор Кольридж сказал где-то еще, что, “дабы получить одного Шекспира или Мильтона, потребуются души 500 сэров Исааков Ньютонов”. Это может быть истолковано как неприкрытая враждебность одного из ведущих поэтов-романтиков к науке как таковой, однако в случае с Кольриджем дело обстояло сложнее. Он читал много научной литературы и сам воображал себя научным мыслителем – не в последнюю очередь в области света и цвета, где претендовал на то, чтобы считаться предшественником Гёте. Кое-какие из научных рассуждений Кольриджа, как выяснилось, оказались плагиатом, и он, вероятно, был не слишком критичен по отношению к источникам, с которых списывал. Он предавал анафеме не ученых вообще, а Ньютона в частности. Его уважением пользовался сэр Гемфри Дэви, чьи лекции в Королевском институте он посещал, “дабы пополнить свой запас метафор”. Ему казалось, что открытия Дэви по сравнению с ньютоновскими “более интеллектуальны, сильнее облагораживают человеческую природу и наделяют ее б ó льшими возможностями”. Из этих слов о новых возможностях и облагораживании можно заключить, что сердце Кольриджа было отзывчиво к науке, пусть и не к Ньютону лично. Но он не сумел соответствовать своим же принципам – “раскрывать и приводить в порядок” мысли в виде “четких, ясных и поддающихся пересказу понятий”. Когда в письме, написанном в 1817 году, он берется за тему, собственно, спектра и расплетания радуги, то так путается, что кажется, будто он почти что не в себе:
Для меня, признаюсь, положения Ньютона, во-первых, о световом Луче как о физическом синодическом Индивидууме; во-вторых, о том, будто бы 7 особых индивидуумов сосуществуют (посредством какой связки?) внутри этого сложного, но делимого Луча; в-третьих, что Призма просто механически рассекает Луч; и в-последних, что Свет, как общий результат, = неразбериха.
В другом письме 1817 года он вновь садится на своего любимого конька:
Итак, еще раз: Цвет – это Гравитация под действием Света, причем Желтый – это положительный полюс, а синий – отрицательный. Красный же представляет собой зенит, или Экватор. В то же время Звук – это Свет под действием, или верховенством, Гравитации.
Быть может, Кольридж просто слишком рано родился, а то бы прослыл постмодернистом.
Различение изображений и фона, преобладающее в “Радуге земного тяготения”, также очевидно и в “Вайнленде”[23], хотя и в более самостоятельном смысле. Подобным образом Деррида использует термин “субсемиотическая теория культуры”, чтобы обозначить роль читателя как поэта. Итак, тема контекстуализирована в рамках теории посткультурного капитализма, рассматривающей язык как парадокс.
Это взято с веб-страницы https://www.monash.edu, где можно найти буквально неисчерпаемые залежи бессмыслицы такого рода. Ничего не означающая словесная игра модных франкоязычных “мыслителей”, превосходно разоблаченная в книге Алана Сокала и Жана Брикмона “Интеллектуальные уловки” (1998 г.), не имеет, кажется, никакой иной цели, кроме как впечатлять легковерных. Эти авторы даже не хотят, чтобы их понимали. Моя коллега призналась как-то одному американскому последователю постмодернистской философии, что его книга показалась ей очень трудной для понимания. “О, благодарю вас”, – улыбнулся он ей в ответ, будучи явно польщен таким комплиментом. По сравнению с этим научные блуждания Кольриджа вполне можно принять за искреннюю, пусть и непоследовательную, тягу к пониманию окружающей природы. Нам следует отметить его как единственную в своем роде аномалию и двигаться дальше.
Почему у Китса в “Ламии” философия “линейки” названа “холодной” и почему перед ней распадается “в прах” все волшебство? Что такого ужасающего в разуме? Тайны не утрачивают свою поэзию, будучи разгаданными. Как раз наоборот: ответ зачастую оказывается красивее самой загадки, и, в любом случае, объяснив одну тайну, вы обнаруживаете другие – возможно, способные пробуждать еще более великую поэзию. Некий приятель прославленного физика-теоретика Ричарда Фейнмана однажды упрекнул ученых в том, что, изучая цветок, они не замечают его красоты. Фейнман ответил:
Та красота, которую видишь ты, мне тоже доступна. Но я вижу и более глубокую красоту, которая не столь охотно открывается другим. Я могу видеть сложные взаимодействия, в которые вступает этот цветок. Он красного цвета. Если у растений есть цвет, означает ли это, что они эволюционировали, чтобы привлекать насекомых? Отсюда возникает новый вопрос: способны ли насекомые видеть в цвете? Есть ли у них эстетическое чувство? И так далее. Я не понимаю, каким образом изучение цветка может хоть что-то отнять от его красоты. Оно только прибавляет к ней.
“Вспоминая мистера Фейнмана”, журнал Skeptical Inquirer (1988 г.)
Осуществив рассечение радуги на свет с различными длинами волн, Ньютон заложил основы для максвелловской теории электромагнитного поля, а следовательно, и для эйнштейновской специальной теории относительности. Если вы находите поэтическую таинственность в радуге, то вам просто необходимо отведать относительность! Эйнштейн и сам мог подходить к науке с откровенно эстетическими мерками – возможно, даже чересчур увлекаясь. “Самое прекрасное, что мы можем испытать, – говорил он, – это ощущение тайны. Оно источник любого подлинного искусства и науки”. Сэр Артур Эддингтон, чьи собственные научные труды тоже были отмечены печатью поэзии, воспользовался солнечным затмением 1919 года, чтобы проверить общую теорию относительности. Вернувшись с острова Принсипи, он, по словам Банеша Хофмана, объявил, что в Германии живет величайший ученый эпохи. У меня горло перехватывало от волнения, когда я читал об этом, но Эйнштейн отнесся к своему триумфу невозмутимо: если бы результат наблюдений оказался иным, “тем было бы хуже для уважаемого лорда. Моя теория верна”.
Исаак Ньютон сделал себе свою собственную радугу в затемненном помещении. Маленькая дырочка, проделанная в ставнях, пропускала солнечный свет. На его пути была установлена та самая пресловутая призма, которая преломляла (отклоняла) луч на некий угол: в первый раз, когда он проникал в стекло, а потом еще раз – когда он снова выходил в воздух через противоположную грань призмы. Когда же этот свет доходил до стены, на ней четко отображались цвета спектра. Ньютон не был первым, кто получил искусственную радугу, используя призму, но именно он впервые доказал с ее помощью, что белый свет представляет собой смесь разнообразных оттенков. Призма рассортировывает их, отклоняя на разные углы: синий более резко, красный – слабее, а зеленый, желтый и оранжевый – на углы промежуточных значений. Прежде, понятное дело, думали, будто призма оказывает какое-то дополнительное воздействие на свет, подкрашивая его, а не просто выделяет цвета из уже существующей смеси. Ньютон поставил точку в этом вопросе благодаря двум опытам, в которых свет пропускался через вторую призму. В своем experimentum crucis за первой призмой он ставил заслонку, пропускавшую только небольшую часть спектра – скажем, красную. Когда этот красный свет снова преломлялся второй призмой, он оставался все таким же красным. Это показало, что призма качественно не влияет на свет, а просто разделяет на компоненты то, что в норме представляет собой смесь. В другом решающем опыте Ньютон перевернул вторую призму вверх ногами. И веер из спектральных цветов, который был развернут первой призмой, вторая опять сложила воедино. Из нее выходил вновь воссозданный свет белой окраски.
Самый простой способ понять цветовой спектр – это подойти к нему с точки зрения волновой теории света. Особенность волн состоит в том, что между начальным и конечным пунктами их распространения ничего на самом деле не перемещается. Все перемещения происходят локально и в маленьком масштабе. Мелкие локальные изменения запускают такие же изменения на соседних небольших участках, и так далее вдоль всей прямой – наподобие знаменитых “волн” на футбольных стадионах. На смену исходной волновой теории света впоследствии пришла квантовая теория, согласно которой свет распространяется в виде потока дискретных фотонов. Те физики, которых я припер к стенке, сознались, что фотоны несутся к нам от Солнца и этим отличаются от футбольных фанатов, не перемещающихся вокруг стадиона, а остающихся на своих местах. Тем не менее хитроумные эксперименты нашего столетия показали, что даже в рамках квантовой теории фотоны ведут себя и как волны тоже. Для многих целей, в том числе и для тех, что мы преследуем в данной главе, вполне позволительно забыть о квантовой теории и рассматривать свет просто как волны, расходящиеся от своего источника подобно ряби на пруду, в который бросили камешек. Правда, световые волны распространяются сразу в трех измерениях и несравнимо быстрее. Расплести радугу – значит разобрать ее по частям с разными длинами волн. Белый свет – это мешанина из волн разной длины, зрительная какофония. Белые предметы отражают свет любой длины волны, но, в отличие от зеркал, беспорядочно рассеивают его. Вот почему, глядя на белую стену, мы можем видеть отражение света, но не собственного лица. Цветные предметы – в силу атомной структуры своих пигментов или поверхности – поглощают свет одних длин волн, а других – отражают. Обычное оконное стекло свободно пропускает свет любой длины волны. Цветные же стекла пропускают только некоторые длины волн, а остальной свет поглощают.
Так отчего же при отклонении лучей стеклянной призмой или, при определенных условиях, каплей дождя белый цвет распадается на составляющие? И вообще, почему стекло или вода в принципе отклоняют траекторию светового луча? Связано это с тем, что при переходе из воздуха в стекло (или воду) свет замедляется. А пройдя через стекло насквозь, снова разгоняется. Как же подобное согласуется с утверждением Эйнштейна о том, что скорость света – важнейшая физическая постоянная во Вселенной и ничто не может распространяться быстрее? Дело в том, что знаменитая полная скорость света, обозначаемая буквой c, достигается только в вакууме. А когда свет проходит через прозрачную субстанцию вроде стекла или воды, его скорость уменьшается – в соответствии с величиной, которая называется показателем преломления данного вещества. В воздухе свет тоже замедляется, но не так сильно.
Но почему в результате замедления свет продолжает распространяться под другим углом? Если направить световой луч точно перпендикулярно поверхности стекла, он продолжит двигаться под тем же углом, прямо по курсу, просто с меньшей скоростью. Однако луч, падающий на поверхность не перпендикулярно, не только замедляется, а еще и отклоняется, продолжая распространяться теперь уже под меньшим углом. Почему? Физиками был сформулирован так называемый принцип наименьшего действия, который если и не вполне годится в качестве окончательного объяснения, то по крайней мере способствует интуитивному пониманию. Суть дела хорошо изложена в книге Питера Эткинса “Переосмысленное мироздание” (1992 г.). Некий физический объект – в данном случае луч света – ведет себя так, словно стремится к экономии, старается что-то минимизировать. Представьте, что вы спасатель на пляже и ринулись на помощь тонущему ребенку. Каждая секунда на счету, и вам необходимо добраться до утопающего за как можно меньшее время. Бегаете вы быстрее, чем плаваете. Ваш путь по направлению к ребенку сначала проходит по суше, где вы двигаетесь быстро, а затем по воде – гораздо медленнее. Если тонущий не находится в море непосредственно перед тем местом, где вы стоите, как минимизировать время вашего передвижения? Вы могли бы двигаться по прямой, минимизируя расстояние, но это не сократило бы время, так как слишком большую часть маршрута пришлось бы проделывать вплавь. Вы могли бы добежать по прямой до кромки воды так, чтобы оказаться точно напротив ребенка, а затем уж плыть. Это позволило бы максимизировать длину пробежки за счет плавания, но даже такой путь не был бы самым быстрым – слишком велика была бы его общая длина. Нетрудно увидеть, что быстрее всего было бы добежать до воды под неким критическим углом (зависящим от соотношения скоростей, с которыми вы бежите и плывете), а на водной части маршрута резко изменить направление. В этой аналогии скорость плавания и скорость бега соответствуют показателям преломления для воды и для воздуха. Естественно, световые лучи не “стараются” преднамеренно минимизировать время своего распространения, но их поведение станет понятнее, если исходить из того, что они делают нечто подобное. Данная аналогия будет выглядеть солиднее в терминах квантовой теории, но это уже вне моей компетенции, так что рекомендую обратиться к книге Эткинса.
Спектр различных цветов появляется в связи с тем, что свет с разными длинами волн замедляется в неодинаковой степени: показатель преломления какого-либо вещества, скажем, стекла или воды, для синего света больше, чем для красного. Вы можете представить себе синий свет как неумелого, по сравнению с красным светом, пловца, то и дело вязнущего в атомах воды (или стекла) из-за своей небольшой длины волны. В воздухе атомы расположены менее плотно, так что все световые лучи увязают в нем меньше, однако синие все равно распространяются медленнее красных. А в вакууме, где увязать вообще не в чем, свет любого цвета имеет одну и ту же скорость: великую, универсальную, предельную c.
Капли дождя действуют сложнее ньютоновской призмы. Они имеют форму, близкую к сферической, и их задняя поверхность выступает в роли вогнутого зеркала. Таким образом, преломив солнечный свет, они еще и отражают его. Вот почему мы видим радугу, когда смотрим в противоположную от солнца сторону, а не когда глядим на него сквозь пелену дождя. Представьте, что вы стоите спиной к солнцу и смотрите на дождь – желательно при этом, чтобы он лил на фоне темных туч. Если солнце стоит выше 42 градусов над горизонтом, то никакой радуги мы не увидим. Чем солнце ниже, тем выше радуга. Когда утром солнце восходит, радуга, если таковая видна, опускается. А вечером, на закате, радуга поднимается. Итак, предположим, что сейчас раннее утро или вечер. Будем исходить из того, что каждая отдельно взятая дождинка представляет собой сферу. Солнце находится сзади и слегка над вами, и его свет проникает в эту каплю через верхнюю ее половину. На границе воздуха с водой он преломляется – и составляющие его волны разной длины отклоняются под разными углами, как в ньютоновской призме. Распустившиеся красочным веером цвета проходят сквозь содержимое капли и встречают ее вогнутую заднюю поверхность, которая отражает их назад и вниз. Лучи вновь покидают каплю, и некоторые из них оканчивают свой путь в вашем глазу. При обратном переходе из водной среды в воздушную они преломляются во второй раз – различные цвета снова отклоняются на разные углы.
Итак, наша дождинка испускает полный спектр лучей – красных, оранжевых, желтых, зеленых, голубых, синих, фиолетовых, – и точно таким же образом поступают прочие дождинки, ее соседки. Но только небольшой участок спектра, исходящего из каждой конкретной капли, попадает к вам в глаз. Если вы улавливаете зеленый отблеск от некой дождинки, то ее синий отблеск пройдет выше, а красный – ниже. Так почему же тогда вы видите всю радугу целиком? Потому что дождинок множество. Полоса, состоящая из тысяч капель, посылает вам зеленый свет (одновременно посылая синий свет любому, кто будет расположен несколько выше вас, и красный – тому, кто окажется несколько ниже). Другая полоса, тоже образованная тысячами капель, передает вам красный свет (а кому-то другому – синий…), еще одна полоса из тысяч капель отсвечивает для вас синим, и так далее. Все капли, которые направляют на вас красный свет, находятся на одинаковом расстоянии от вас – вот почему красная полоса радуги изогнута (вы в центре окружности). Капли, которые светят вам зеленым, тоже находятся от вас на одинаковом расстоянии, но оно немного меньше. Потому образуемая ими окружность имеет меньший радиус – и зеленая полоса располагается внутри красной. Точно так же синяя полоса располагается внутри зеленой, так что вся радуга представляет собой серию вставленных друг в друга окружностей, центр которых – вы. Другие наблюдатели будут видеть другие радуги – тоже описанные лично вокруг них.
Таким образом, мало того, что радуга не привязана ни к какому определенному “месту”, где феи могли бы упрятать горшок с золотом, но и самих радуг столько же, сколько глаз, смотрящих на ливень. Разные наблюдатели, глядящие на него из различных точек, собирают свои собственные, персональные радуги из света, который исходит от разных наборов дождевых капель. Строго говоря, даже каждому вашему глазу видится своя, отдельная радуга. А если мы едем по дороге и любуемся “одной и той же” радугой, то в действительности перед нами проходит серия из множества радуг, быстро сменяющих одна другую. Думаю, знай Вордсворт обо всем этом, он усовершенствовал бы свои строки “Займется сердце, чуть замечу / Я радугу на небе”[24] (хотя должен сказать, что последующие строки трудно было бы сделать еще прекраснее).
Дополнительная сложность заключается в том, что сами кап ли тоже не стоят на месте: они падают либо сносятся ветром. Так что конкретная дождинка может пролететь сквозь полосу, испускающую для вас, скажем, красный свет, и очутиться в желтой области. Но вы по-прежнему будете видеть красную полосу, словно ничего и не сдвигалось, поскольку на смену ушедшим каплям приходят новые. Ричард Уилан в своей очаровательной “Книге радуг” (1997 г.), откуда я почерпнул многие “радужные” цитаты, приводит слова Леонардо да Винчи:
…Применяй то же правило, какое обнаруживается при образовании солнечными лучами радуги, иначе ириды. Эти цвета зарождаются в движении дождя, так как каждая капелька изменяется в своем падении в каждый цвет этой радуги…[25]
“Трактат о живописи” (1490-е гг.)
Видимая нами иллюзорная радуга стоит твердо как скала, хотя создающие ее капли падают вниз и развеиваются ветром. Кольридж писал:
Незыблемая радуга посреди быстро движущихся, мельтешащих града и мороси. Какое соединение картин и ощущений: немыслимое постоянство в окружении стремительных превратностей бури! Спокойствие – дитя шторма.
Из Anima Poetae (опубликовано в 1895 г.)
Его приятель Вордсворт тоже был очарован неподвижностью радуги на фоне бурных потоков дождя:
Тем временем, уж я не знаю как,
Каким смешеньем облаков и ветра,
Но невредимой радуга взошла
И встала неподвижно…
“Прелюдия” (1815 г.)
Романтическое обаяние радуги частично кроется еще и в том, что нам кажется, будто она всегда расположена вдали на горизонте – гигантская недосягаемая дуга, удаляющаяся по мере нашего приближения. Однако у Китса “блеск радуги в волне прибрежной”[26] был близко. И если ехать на машине вдоль живой изгороди, то иногда можно увидеть радугу в виде полной окружности, имеющей всего несколько футов в диаметре[27]. (Полукруглыми радуги выглядят только потому, что их нижняя часть скрыта под линией горизонта.) А такой большой радуга нам кажется отчасти из-за иллюзии восприятия расстояния. Наш мозг проецирует ее изображение на небосвод, отчего оно увеличивается. Точно такого же эффекта можно добиться, если долго глядеть на яркую лампу, чтобы “запечатлеть” ее след на своей сетчатке, а затем “спроецировать” его вдаль, посмотрев на небо, – изображение тоже как бы вырастет.
Есть и другие пленительные подробности, еще больше все усложняющие. Я описал, как свет проникает в дождевую каплю через верхнюю половину обращенной к солнцу поверхности, а выходит через нижнюю. Однако, конечно же, ничто не мешает свету входить и через нижнюю половину. При определенных условиях этот свет может дважды отражаться внутри сферической дождинки таким образом, что в итоге и он, также преломленный, выходит из нижней части капли и попадает в глаз наблюдателю, создавая вторую радугу с обратной последовательностью цветовых полос, расположенную примерно на 8 градусов выше первой. Само собой разумеется, что для каждого конкретного наблюдателя эти две радуги формируются разными множествами дождевых капель. Двойная радуга наблюдается нечасто, но наверняка Вордсворту иногда доводилось ее видеть, и в этих случаях, несомненно, его сердце занималось даже сильнее обычного. В принципе, бывает и большее количество дополнительных радуг – правда, еще более бледных, – расположенных концентрически, но увидеть их можно крайне редко. Неужели кто-то всерьез мог полагать, будто понимание того, что происходит внутри всех этих мириад падающих, искрящихся, отражающих и преломляющих свет капелек, способно чему-то повредить? В третьем томе своих “Современных художников” (1856 г.) Джон Рёскин написал:
Для большинства людей несведущее наслаждение приятнее осведомленного: приятнее созерцать небо как голубой свод, чем как темную пустоту, а в облаке видеть золотой трон вместо сырого тумана. Я часто задаюсь вопросом, может ли человек, разбирающийся в оптике, каким бы религиозным он ни был, испытывать при виде радуги такие же радость и благоговение, какие способен испытать неграмотный крестьянин. <…> Нам не дано проникнуть в тайну ни единого цветка – мы и не предназначены для этого. Напротив, научный поиск должен быть постоянно сдерживаем любовью к красоте, а точность знаний – нежностью чувств.
Все это как-то добавляет правдоподобия тому предположению, согласно которому брачная ночь несчастного Рёскина была загублена ужасающим открытием, что у женщин есть лобковые волосы.
В 1802 году, за пятнадцать лет до “нетленного ужина” у Хейдона, английский физик Уильям Волластон провел эксперимент, аналогичный ньютоновскому, только на сей раз солнечный луч, прежде чем встретиться с призмой, должен был пройти через узкую щель. Спектр, получившийся на выходе из призмы, состоял из серии узких полос разного цвета. Полосы переходили одна в другую, образуя полный диапазон оттенков, однако то там, то сям по спектру были разбросаны тонкие темные линии, имевшие строго определенное местоположение. Позже эти линии исследовал и подробно описал немецкий физик Йозеф фон Фраунгофер, чьим именем они и были названы. Расположение фраунгоферовых линий представляет собой уникальный “отпечаток пальца” – или, лучше сказать, “штрихкод”, – зависящий от химической природы вещества, через которое прошло излучение. Например, водород дает свой особый, характерный рисунок из линий и промежутков между ними, натрий – свой, и так далее. Волластон увидел только 7 линий, Фраунгофер, чьи приборы были совершеннее, обнаружил 576, а современные спектроскопы различают до 10 000.
Уникальность “штрихкода” химического элемента заключается не только в расстояниях между линиями, но и в их местоположении на радужном фоне. Точно и детально “штрихкоды” водорода и всех прочих элементов объяснила квантовая теория, но здесь мы подходим к тому рубежу, где я вынужден извиниться и откланяться. Иногда мне кажется, что я способен оценить поэзию квантовой теории, но мне еще далеко до понимания, достаточно глубокого для того, чтобы объяснять ее другим. На самом деле не исключено, что никто по-настоящему не понимает этой теории – возможно, потому что наш мозг был отлажен естественным отбором для выживания в мире больших и медленных предметов, где квантовые эффекты сглажены. Эту мысль хорошо изложил Ричард Фейнман, которому также приписывают следующее высказывание: “Если вы думаете, что понимаете квантовую теорию, – значит, вы не понимаете квантовой теории!” Мне кажется, что я сильно приблизился к ее пониманию благодаря опубликованным фейнмановским лекциям, а также изумительной и сбивающей с толку книге Дэвида Дойча “Структура реальности” (1997 г.). (Особенно она сбивает с толку тем, что в ней трудно различить, где заканчивается общепризнанная физика и начинаются дерзкие умопостроения самого автора.) Но каковы бы ни были сомнения физиков относительно того, как толковать квантовую теорию, ее феноменальная способность точнейшим образом предсказывать результаты экспериментов несомненна. И к счастью, для целей настоящей главы нам достаточно знать то, что известно еще со времен Фраунгофера: каждому химическому элементу достоверно свойственен уникальный “штрихкод” из узких линий, определенным образом расположенных на фоне спектра.
Фраунгоферовы линии можно увидеть двумя способами. До сих пор я вел речь только о темных линиях на радужном фоне. Они возникают потому, что химический элемент, находящийся на пути у луча, поглощает световые волны определенных длин, избирательно отнимая их у видимого нами спектра. Но можно получить и аналогичный рисунок из ярких цветных линий на темном фоне, если заставить тот же самый элемент светиться – как это бывает в тех случаях, когда он входит в состав какой-нибудь звезды.
Усовершенствование ньютоновского расплетания радуги, предложенное Фраунгофером, уже было известно, когда французский философ Огюст Конт написал о звездах следующие опрометчивые строки:
Никогда, никаким методом мы не сможем изучить их химический состав и минералогическую структуру… Наше позитивное знание о звездах неминуемо ограничивается геометрией и механикой.
“Курс позитивной философии” (1835 г.)
Сегодня, благодаря тщательному анализу фраунгоферовых штрихкодов в звездном свете, мы знаем в больших подробностях, из чего сделаны звезды, хотя перспективы посетить их вряд ли стали лучше, чем были во времена Конта. Несколько лет назад у моего друга Чарльза Симони состоялась дискуссия с бывшим председателем Федеральной резервной системы США. Этому господину было известно о том, как удивились ученые, когда НАСА удалось выяснить, из чего на самом деле состоит Луна. Раз Луна намного ближе звезд, рассудил он, значит, наши гипотезы относительно их состава должны быть еще менее обоснованными. Звучит убедительно, однако, как сумел объяснить ему доктор Симони, в действительности все обстоит с точностью до наоборот. Не имеет значения, как далеко от нас находятся звезды: они испускают свой собственный свет, вот что важно. А лунный свет – это отраженный свет Солнца (говорят, что Дэвид Герберт Лоуренс отказывался верить этому факту, оскорблявшему его поэтические чувства), так что его спектр никак не помогает нам выяснить химическую природу Луны.


