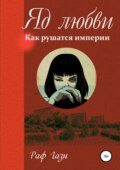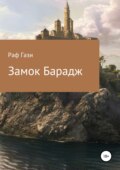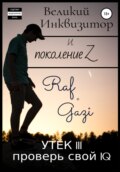Раф Гази
Великая Татария
Прямых доказательств, подтверждающих, что немецкие историки получила тайный спецзаказ – нет, но косвенных предостаточно. Маркиз де Кюстин ничуть не преувеличивал возможности российских самодержцев, когда то ли восхищено, то ли недоуменно восклицал:
«Император – не просто наместник Господа, он сам – творец, причем творец Господа превзошедший: ведь Господу подвластно только будущее, император же способен изменять прошедшее!»
Имея на руках родовые архивы (когда запахло жаренным, главный архивариус сам их и сжег), Миллер выводил род Романовых от Захарьиных-Юрьевых.
До них на Московском троне были князья, близкие к Дому Чынгыза. Их всех задним числом записали в Рюриковичей.
Публичная лекция Герхарда Миллера «О происхождении народа и имени Российского», как уже было сказано, вызвала бурю негодования среди патриотически настроенной части российской общественности во главе с Михайло Ломоносовым.
«Основная ее идея была связана с доказательством скандинавского происхождения Рюрика и названия «Русь», – комментирует А. Б. Каменский в своей обширной статье «Судьба и труды историографа Герхарда Фридриха Миллера (1705–1783)». – Идея была не нова и в сущности лишь развивала положения теории Г. З. Байера, основывавшейся на том, что в финно-угорских языках слова, обозначающие шведов, имеют корень, близкий по звучанию к слову «Русь».
С помощью «варягов», которых в Западной Европе называли норманнами, Байер, Щлёцер, Миллер и иже с ними убивали сразу двух зайцев.
Во-первых, тешили свое национальное самолюбие. Там, где шведы – там и немцы, во всяком случае – все равно Европа.
Во-вторых, вели родословную Романовых, как из Европы, так и от Рюриков – первых правителей Киевской Руси. Исполняя, таким образом, императорский заказ, если он, конечно, существовал. Если его не существовало, то «европейский стандарт» по-любому нужно было выдерживать.
Хотя это чистейшей воды халтура!
Но наш анализ замечаний Миллера к книге Абул Гази позволяет сделать вывод, что ученый немец, несмотря на явный негатив к Татарам и вообще к мусульманам, все же дорожил своей научной репутацией.
Как настоящий ученый, он утверждал, что историк «должен казаться без отечества, без веры, без государя, – все, что историк говорит, должно быть строго истинно и никогда не должен он давать повод к возбуждению к себе подозрения в лести».
А.Б.Каменский, взявший на себя роль адвоката Миллера, чтобы снять с него клеймо «продажного немца норманниста», приводит воспоминания известного путешественника Уильяма Кокса. Англичанин познакомился с ученым немцем на обеде у князя Волконского в 1779 году.
«Миллер говорит и пишет свободно по-немецки, по-русски, по-французски, по-латыни и свободно читает по-английски, по-голландски, по-шведски, по-датски и по-гречески, – восхищался Кокс. – Он обладает до сих пор изумительной памятью, и его знакомство с самыми малейшими подробностями русской истории прямо поразительно.
После обеда этот выдающийся ученый пригласил меня к себе, и я имел удовольствие провести несколько часов в его библиотеке, в которой собраны чуть ли не все сочинения о России вышедшие на европейских языках; число английских авторов, писавших об этой стране, гораздо больше, нежели я думал.
Его собрание государственных актов и рукописей неоценимо и хранится в величайшем порядке».
Глава 2. С Тюрком нужно говорить по-тюркски
Параграф 1. Скиталец Абул
О своей нелегкой судьбе Абул Гази сам поведал во второй части своей «Родословной Татар».
Вкратце она выглядит так.
Родился Абул в Ургенче, в зна тной семье хивинского хана Араб-Мухаммеда, ведущего свой род от Шейбана – внука Джучи. Мать Гази тоже была от крови Чынгыза.
Это случилось 12 августа 1603 года.
Появился на Божий свет будущий воин и ученый в священный день жомга – пятницу, а покинул его в священный месяц Рамазан 60-ти лет от роду.
Ребенка назвали Гази – «воин за Веру» вот почему.
Во-первых, накануне его рождения отец одержал победу над уральскими казаками (по происхождению они тоже были тюркских кровей), напавшим на богатый город Ургенч – первоначальную столицу ханства. Разбойники убили 1000 горожан и начали грабеж. Мухаммед-хан, находившийся в летнем лагере на берегу Аму-Дарьи, спешно вернулся и наголову разбил захватчиков.
Ровно через 40 дней родился Абул.
Во-вторых, семья его матери Михрибану, которой он лишился в шестилетнем возрасте, уже носила этот титул.
Абул Гази знает свою родословную от самого Адама. А от его великого предка Чынгыза до самого Гази – 16 колен или чуть более 400 лет.
У Мухаммед-хана было семеро сыновей от разных матерей.
Двое старших братьев объявили войну детям покойной Михрибану – Абулу и Исфандияру, а также своему отцу Араб-Мухаммеду. На свою сторону они привлекли два сильных узбекских рода – уйгур и найманов, к которым принадлежала их матушка.
Араб-Мухаммед перевел столицу Хорезмского ханства в Хиву. Аму-Дарья изменила течение, и некогда процветающий Ургенч, расположенный на берегах этой полноводной реки, стала хиреть.
Абул просил отца: “Прикажите убить Хабаш-султана и Ильбарс-султана за измену!” Араб-Мухаммед отказал, о чем потом горько сожалел. Он сам попал к ним в плен.
Хабаш приказал выколоть отцу глаза, после чего тот вместе с тремя женами и младшими сыновьями был заключен в крепость Кум.
Но Ильбарс и там не оставил его в покое, – повелел и вовсе умертвить отца.
Самый младший брат Авган-султан был отправлен с урусским послом Хохловым в Москву. У Хивинского ханства с Московским царством были тогда вполне дружественные отношения.
Но Абул Гази уточняет. Его младший брат нашел приют все же не в самой Москве, а невдалеке от нее, в столице еще одного Татарского ханства – в городе Касимове.
Там он и умер, в принципе, еще совсем молодым человеком, не дожив до почтенных седин.
А Абул Гази бился против братьев-убийц с «великою храбростью».
В одном из сражений он зашел так далеко в стан неприятеля, что «едва было его не взяли в полон». Находясь в окружении 40 лучников, Гази с шестеркой отважных смельчаков смог все же отбиться. Был ранен стрелой в шею. Но держась за гриву лошади, перебрался на другой безопасный берег реки…
Затем Абул-Султану удалось бежать и скрыться в благословенной Бухаре.
Тем временем его старший брат Исфандияр-Султан выступил против убийц отца, заручившись поддержкой воинственных туркмен.
Война династическая переросла в войну гражданскую. Два братских народа – узбеки и туркмены – из-за жажды власти своих правителей ввязались в долгую кровавую бойню.
И лишь в 1645 году, когда Абул Гази воцарился на ханском престоле, удалось достичь перемирия, и огонь вражды стал гаснуть. В Хиве, наконец, стало спокойно.
Но до сей благодатной поры «хивинскому скитальцу» пришлось познать и горький хлеб изгнания, и позор поражений, и обиду повторного предательства, уже со стороны бывшего союзника, старшего брата Исфандияра.
Став ханом, Исфандияр опасался конкуренции со стороны своего младшего брата – тоже законного наследника ханского престола. И пошел на подлую интригу.
Где только Абул Гази не находил убежище: и у Имам-Кули-хана в Бухаре, и у ташкентского хана Турсуна, и у казахского Ишим-хана. Потомок Чынгыза везде был желанным гостем. Но всю жизнь на чужбине не проведешь…
Как бы ни были вкусны казахский бешбармак и кумыс, но хорезмский плов и виноградный арак слаще!
Хивинские туркмены послали в степь своего человека с весточкой: «Пусть Гази-Султан возвращается, хватит кочевать по чужому юрту!» Абул Гази вернулся, и Исфандияр-хан был вынужден признать его правителем Хивы.
Но тут случился «Хорасанский мятеж», направленный против Ирана, к которому Абул никого отношения не имел. Старший брат, однако, выставил его инициатором бунта и отправил заложником к персидскому шаху.
В почетном плену затворник провел 10 томительных лет. Шах выделил ему «изрядный дом», прислугу и 10 000 танге на расходы. Но при этом «весьма крепко его караулили, дабы не нашел какова случая убежать».
Какие знания и навыки Абул Гази приобрел в Исфагане, и как потом бежал из крепости Табарек, в которую был заключен – отдельная детективная история.
Возможно, кто-то ее еще опишет, а может, снимет и фильм – граф Монте-Кристо после этого будет отдыхать.
После побега опальный султан открыто появиться на Родине, естественно, не мог. Там, несмотря на все более громкий ропот, как со стороны узбеков, так и части туркмен, единолично правил «беспредельщик» Исфандияр – как оказалось, самый его злейший и коварный враг.
Пару лет Абулу пришлось перекантоваться у текинцев, а еще годик – у «калмыцкого падишаха». Где он, кстати, и выучил «могулский» язык, который, как и персидский с арабским, очень пригодились ему при написании «Родословной Татар».
Калмыцкий язык хану освоить было несложно, поскольку «старый могулский язык» был гораздо ближе к тюркскому, нежели к новому «халка-монгольскому», на котором сегодня разговаривают монгольские народы. – (В. И. Рассадин, ТЮРКСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ЯЗЫКЕ "СОКРОВЕННОГО СКАЗАНИЯ МОНГОЛОВ". "Тайная история монголов": источниковедение, филология, история. – Новосибирск, 1995.)
Как некогда туркмены, теперь узбеки, хлебнув лиха от подлостей Исфандияра, пришли к достопочтенному Гази «сватать его на царство». Не забыв загрузить арбу подарков для калмыцкого хана. Тот отпустил своего именитого гостя с «засвидетельствованием великой дружбы и почтения».
«Перенеся много невзгод и дожив до тридцати девяти лет, … в год змеи, в Хорезмской стране мы воссели на престоле нашего отца и занялись делами юрта», – вспоминает Абул Гази.
Туркменская знать сначала противилась его возращению, но потом смирилась. Более того, туркменские аксакалы прониклись таким доверием к новому хану, что зная его ученость, попросили восоздать Родословное древо туркмен. Что и было сделано с большим старанием и умением.
Что касается «Родословной Татар», то к ее написанию Абул Гази приступил лишь после 18 лет удачного правления Хивинским ханством. Оставив престол своему сыну Анушу, хан ушел на покой и “занялся делами покаяния и благочестия”.
Вот как автор объяснял свое решение создать сию книгу, к написанию которой имел сильную внутреннюю потребность. Абул Гази не то чтобы хвастал, он как бы отстраненно, вроде говоря даже не о себе, перечислял те навыки и качества, которые позволяли ему взяться за сей благословенный труд.
Во-первых, он обладал военным опытом. И умел воевать равно с малым войском и многочисленным, как с конницей, так и с пехотой.
Во-вторых, имел особое дарование «в сочинении книг на всяких языках». При написании «Родословной Татар» хан использовал 18 рукописей различных авторов, но «некоторых нужно было дополнить, а некоторых поправить».
Вряд ли кого можно найти, заявляет Абул Гази, «который бы меня искуснее был в сем роде писания, разве токмо что в персидских городах или индийских».
И вот талант полководца, и талант писателя, соединившись в одном лице, дали такой замечательный результат.
«Сердца скольких тысяч людей возрадуются, когда в том, что я скажу, узнают то, чего они не знали!» – предсказывал Абу Гази реакцию своих будущих читателей.
И не ошибся. Абул Гази – это компас, показывающий верный курс в буйном море лживой информации.
Параграф 2. Борчуганы и Каяты
«Араб-Мухаммед-хан был прежде меня самодержец в земле "Харасмсской".
Я буду писать в сей книге о доме Чингис-Хановом», – начинает свое повествование Абул Гази.
Достоинство этого повествования еще в том, что оно ведется по-тюркски:
«Да будет известно всем, что те, кто слагали до нас историю Тюрок, чтобы показать народу свой талант и искусство, примешивали арабские слова, а также добавляли персидские слова, а тюркскую речь превращали в рифмованную прозу. Мы не делали ничего подобного, ибо тот, кто будет читать или слушать чтение этой книги, конечно, будет Тюрок, а с Тюрком надо говорить по-тюркски, чтобы каждому было понятно. А если нашу речь не понимают, то какая от нее польза?» – иногда для облегчения понимания текста мы будем пользовать переводом не Триадиковского, а других авторов.
У Яфеса (Яфета – в европейской транскрипции), который произошел от Адама, по прозванию Сафи Юла – перечисляет родословную Татар Абул Гази, – было восемь сыновей:
Тюрк, Хазар, Саклаб, Рус, Минг, Чин, Кемери, Тарых.
Поскольку Тюрк был старшим, перед смертью Яфес оставил сыновьям наказ: “Тюрка считайте своим государем, из повиновения ему не выходите!”.
По-другому Тюрка еще называли «Яфис-оглан», то есть старший сын Яфеса.
Затем долгое время, в течение многих поколений до Аланча-хана на Земле Тюрков была тишь да благодать, поскольку все потомки Яфеса «соблюдали Истинный Закон». Редактор «Родословной Татар» Герхард Миллер уточняет, что до Чынгызхана хозяева бескрайних евразийских степей прозывались Тюрками, а после него – Татарами. Но Татары никому не разрешали «пользоваться именем Тюрк». Тут необходимо поправить Миллера, не все Тюрки хотели прозываться Татарами, так их называли россияне, а сами они придерживались своих собственных имен, правда, часто их меняя.
Описывая смутное время, наступившее после Аланча-хана, Абул Гази использует древнюю тюркскую пословицу: «Когда слишком хорошо кормишь свою собаку, она избаловывается и начинает кусать своего хозяина». Имея в виду, что на Тюркской Земле наступило изобилие, люди разленились и перестали проявлять прежнее рвение в почитании Всевышнего.
Более того, Тюрки оставили истинного Бога Тенгри и стали поклоняться идолам. Здесь явно чувствуется Библейский сюжет – известно, что Библия вобрала в себя много древних текстов. Если держаться Коранической, мусульманской традиции, то можно сказать, что Тюрки в это время забыли своих ханифов и отошли от Прямой Веры.
И началась длинная череда междоусобных войн.
Их начали потомки Аланча-хана – Татар и Могул (или Мунгл), между которыми отец разделил земли Тюрков. Именно отсюда, от Татар-хана, произошло название Татар, а не о реки Тата, «как многие историки говоря", – считает Герхард Миллер.
Линия Могул-хана ведет к Кара-хану и его сыну легендарному сыну Огузу.
Огуз-хану пришлось убить своего отца, чтобы восстановить в Державе, как говорится в одном из переводов книги Абул Гази, «истинный Закон». О мусульманстве ничего не упоминается, его тогда еще не существовало.
«Истинный Закон» – это прямой путь ханифейской Веры всех Тюрков к Небесному Богу Тенгри.
Абул Гази разъясняет, что Огуз поссорился со своим отцом Кара-ханом из-за того, что они придерживались с ним «разных Законов».
Огуз-хану удалось вновь объединить Тюрков и вернуть их к «Истинному закону».
Приступая к описанию непосредственно «Дома Чынгыза», Абул Гази прибегает к помощи Джувейни и Рашид ад-дина, которого он уважительно называет «Ходжа Рашид».
Хивинский хан писал свою книгу спустя 372 года после «перса-мифотворца», но повторил все его сказки, если их автору «Родословной Татар», не приписали более поздние редакторы и переводчики.
Ну как, например, относиться к такой мифологеме?
Начиная с прадеда Чынгыза Кабула, тоже ведущего свою линию от «печального хана» Мунга, все дети «рождались без мужского совокупления и потому считались чистыми».
Все шестеро сыновей Кабула выросли великими воинами. Для обозначения высшей доблести используется понятие «Каят».
У одного из внуков по имени Иессуги-баядур «была красная полоска в глазу между черным и белым местом», из-за чего его прозвали борчуган-Каят. К именам детей с такими приметами всегда добавляли эту приставку «борчуган».
Иессуги – это отец Темучина, названного потом Чынгызом. Сам Чынгыз и все четверо его братьев были борчуганами и Каятами.
Был ли сам Абул Гази, дальний потомок Чынгыза, борчуганом? Каятом он был точно. А вот борчуганом…
Подтверждения тому нет. Но хивинский хан говорит, что знание о «красной полоске» составляло фамильную тайну, и никто, кроме него самого о ней раньше не ведал.
Параграф 3. Миф – это серьезно
По всей книги «Родословной Татар» и в Примечаниях к ней разбросаны любопытнейшие исторические факты и детали. Некоторые из них широко тиражированы, а что-то является эксклюзивом.
Да, возможно, многое из того, что рассказал нам хивинский хан – просто мифы.
Но мифы в истории очень важны, иногда важнее, чем сама историческая реальность. Ибо реальность весьма зыбкая субстанция, она быстро забывается и искажается, а мифы остаются.
Остаются и превращаются в устойчивый фольклор, обрастая новыми легендами, сказаниями и баитами, которые оказывают колоссальное воздействие на ум и душу народа. Воспитывая и формируя его.
Стойкий и непобедимый Тюркский Дух во многом обязан и таким героическим мифам-балладам.
Вот как научным языком выразил эту мысль современный исследователь Андрей Буровский, которого иногда несправедливо, на наш взгляд, называют псевдоисториком:
«Историческое знание мифологично по самой своей сути. Более того – в истории научная теория без мифологии никогда не станет широко известной, не ляжет в основу поведения государственных деятелей, не войдет в учебные пособия. Это происходит потому, что мифологично ИСТОРИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ людей». («Не Вторая Мировая, а Великая Гражданская! Запретная правда о войне». А. М. Буровский.)
Пишущего эти строки могут заподозрить в субъективизме и предвзятости, дескать, он вытаскивает из небытия одни, «выгодные» ему факты, а другие – предает забвению.
Во-первых, все так делают. Есть даже такое выражение: «Историю пишут победители». Придворные историки оставляют только те факты и события, которые соответствуют ведущей доктрине, остальное – или забывается, или искажается.
Во-вторых, хотя мы и стараемся сохранять максимальную объективность, но смотрим на мировую историю с позиции Тюрков. И видим в ней то, что увидели бы они. Как говорил в предисловии «Родословная Татар» Абул Гази, «я пишу эту книгу для Тюрок на понятном им языке». Так и мы обращаем нашу книгу, в первую очередь, ко всем Тюркам, большинство из которых сегодня понимают русский язык.
Возьмем, к примеру, одно из первых столкновений войска Чынгыза с кыпчаками. Где тут правда, где вымысел – трудно понять! Этот эпизод часто описывается в популярной литературе.
Но нам важно, как он преподносится в достаточно древнем историческом памятнике «Родословная Татар», созданном на тюркском языке и рассчитанном на сознание и души тюркской аудитории.
Из предыдущего повествования мы знаем, что Татары (начиная с эпохи Чынгызхана, следуя традиции, мы тоже будем называть Тюрок Татарами) – близкие родственники Кыпчакам. Вспомним, что Кыпчаком звали приемного сына Огуза из рода Мунг-хана, которого он послал править в Приволжские и Прикаспийские степи.
Но Кыпчаки не безраздельно господствовали в этих степях, временами их теснили другие племена, тоже в основном тюркские. Как утверждает Абул Гази, «Уруссы завладели всей Кипчакской землей в лето 961 года» – а это уже завоевания Ивана Грозного, о которых автор "Родословной Татар" говорит лишь вскользь.
И вот спустя несколько веков на поле боя произошла историческая встреча потомков Кыпчака и Мунг-хана. И те, и другие, естественно, признали свое кровное родство и засунули мечи обратно в ножны.
Далее интересно. Татары близких им по крови Кыпчаков не тронули, а вот алан, заключивших с ними союз, разбили. Кыпчаки ушли к Уруссам – еще одному родственному племени (вспомним, Урус согласно «Родословной Татар» – младший брат Тюрка).
Уруссы и Кыпчаки вместе выступили против Татар, но потерпели поражение.
Вот еще одно примечательное замечание, сделанное уже редактором книги:
«Земля Кипчакская есть земля Казаков (Казахов), во-первых, поскольку они по сей день там живут. Во-вторых, «кипчак» и «казак» похожие слова. И в-третьих, «нынешние Казаки весьма любят Татар, которых они называют братьями и свойственниками своими, и склонны почти до всего того, до чего Татары».
То есть в представлениях, бытовавших в России в конце XVIII века, Казахи, Кыпчаки, Татары – это практически один и тот же народ.
Более того, утверждает Миллер, и Калмыки – те же Татары. Это – одно из трех ответвлений Тюрков, которые «сохранили в чистоте язык Могуллский или старинный Тюркский».
Суждения Герхарда Миллера, 350-летней давности о «Могуллском языке» вполне коррелируются с современными исследованиями. Крупный лингвист, профессор Валентин Рассадин, о котором мы говорили выше, в «старом» монгольском языке обнаруживает больше тюркизмов, чем собственно монгольских слов.
Иногда, новые открытия в науке – это хорошо забытые очевидности.