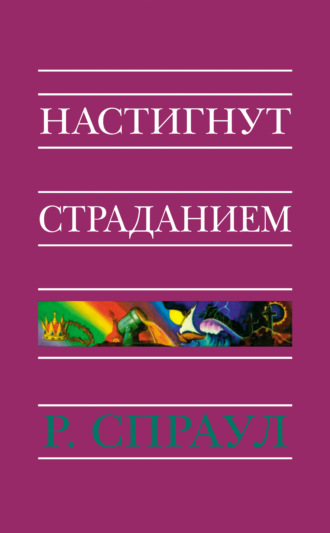
Р. Ч. Спраул
Настигнут страданием
В суматохе той ночи партизаны отступили так же молниеносно, как появились. Дон лежал, прижимаясь к земле и притворяясь убитым, пока все не успокоилось. Ранения его были поверхностными, хотя весь он был обожжен порохом. Борясь с желанием спастись бегством, Дон голыми руками вырыл неглубокую могилу и предал земле тело своего отца.
Дон выжил, его отец – нет. Сейчас я буду рад поддержке Дона в той долине. Но Некто сильнее Дона обещал идти со мной.
В Божьем присутствии мы находим утешение и черпаем силы. Он обещал не только провести нас через долину. Гораздо важнее то, что обещано нам по ту ее сторону. Бог обещает сопровождать нас в путешествии и вывести нас в другую страну. Дорога наша не оборвется тупиком. Мы перейдем в лучшую жизнь, жизнь настолько полную, что мы даже не можем этого вообразить. Цель нашего призвания – небеса. Но туда нет дороги в обход долины.
Давид понимал это. Хотя он и жил задолго до Христа, до Его воскресения, до откровения Нового Завета, Бог уже даровал надежду лону Авраама. Вот как исповедует Давид свою веру:
Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых (Пс. 26:13).
Бог Авраама, Исаака, Иакова – это Бог живых. Бог Давида – это Бог живых. Бог Иисуса – это Бог живых. По ту сторону смерти есть жизнь.
Мой отец отправился в этот трудный путь, потому что Бог призвал его. Он сумел закончить его, потому что Бог шел рядом с ним сквозь все испытания. Он сохранил веру, потому что вера хранила его.
Это великое наследие, которое Христос оставил Своим овцам.
Глава 2. Крестный путь
И взяв с Собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать (Мф. 26:37).
В скорби и тоске душа Иисуса, когда Он молится в Гефсиманском саду. Иисус переполнен мучительной болью, Он чувствует приближение великих страданий. Это вершина Его божественного призвания. Никто и никогда не был призван Богом на муки более великие, чем те, на которые Он обрек Своего единородного Сына.
Наш Спаситель – страдающий Спаситель. Он пошел в неизведанную страну муки и смерти прежде нас. Он был там, куда не позовут ни одного человека. Чаша, которую испил Он, никогда не коснется наших губ. Бог никогда не потребует от нас хоть чего-то, сравнимого со страданиями, которые Христос взял на Себя. Куда бы Бог ни призвал нас, через какие бы испытания Он ни провел нас, все далеко от того, что пережил Его Сын.
С самого начала Своего служения Иисус сознавал, что смертный приговор висит над Ним. Его «болезнь» была смертельна. На крест Он взошел, пораженный не одним смертельным недугом, но всеми. Конечно же, это не означает, что врач нашел у Него проказу в последней стадии или Его анализ на биопсию оказался положительным. Казалось бы, Он шел к смерти абсолютно здоровым, и все же Он испытывал боль всех недугов, известных человечеству, последствия всякого зла.
Страдание Иисуса было огромно, потому что зла в мире немыслимо много. Каждый наш грех лег на Него. Его призванием и было понести эту страшную ношу. Стерпеть все муки и болезни – Его миссия. Нам трудно, почти невозможно осознать весь ужас этой истины. А Иисус – осознавал; более того – Он принял это призвание и понес его.
Страдающий Бог. Невероятно…
Многие современники Иисуса и мысли допустить не могли, что Сын Божий должен страдать. Именно это стало камнем преткновения для греков. Бог был чем-то неземным, и для них представить себе, что Он облекся плотью, – просто нелепость. Никогда не могло Его затронуть физическое страдание, потому что у Него нет ничего общего с физическим.
Вызов и безумие Евангелия в том и заключались, что Бог стал человеком. Невероятно! Вечное Слово Божье обрело плоть, и плоть эта оказалась уязвимой для всех мук.
Однако такая мысль шокировала не только греков. Иудеи принимали, что Бог может явиться в человеческом облике, но, что Он может по-настоящему, как человек, страдать, понять не могли.
Обратите внимание, что произошло в Кесарии Филипповой. Петр, после величайшего исповедания веры, почти сразу слышит от Иисуса один из самых резких упреков. В ответ на вопрос Иисуса: «А вы за кого почитаете Меня?» (Мф. 16:15), Симон Петр ответил: «Ты – Христос, Сын Бога Живого» (Мф. 16:16). За такой ответ Иисус благословил Петра:
Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах; и Я говорю тебе: ты Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее (Мф. 16:17–18).
Сам Христос благословляет Петра. Может ли человек удостоиться более высокой похвалы?
Однако несколькими минутами позже тот же Петр заслужил от Христа горький упрек:
Отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое (Мф. 16:23).
Слова эти обращены не к сатане, а к Петру. Иисус благословил Симона Петра и тут же называет его сатаной. Как объяснить такую резкую перемену? Что за странная непоследовательность? Мы же знаем, что Иисус никогда не был строг с людьми без серьезной причины. Не был Он и двуличным, одновременно хваля и проклиная.
Но посмотрим, что же произошло между похвалой и порицанием. Это может пролить свет на загадку. За то время, что разделяет эти два эпизода, Петр и Иисус говорили о страдании:
С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть (Мф. 16:21).
Заметьте, Иисус открывал, что Он должен страдать и умереть. У Него не было выбора – идти в Иерусалим или нет. Он должен был исполнить предначертанное, а ждала Его Голгофа. Все Его призвание основывалось на этой «обязанности». Он был призван исполнить Свой долг – страдать и умереть.
А Петр пытался отговорить Его:
И отозвав Его, Петр начал прекословить Ему: будь милостив к Себе, Господи! да не будет этого с Тобою! (Мф. 16:21).
По крайней мере, Петру достало тактичности, чтобы спорить со своим Господом наедине. Он не высказывает свои претензии публично, хотя Святой Дух и услышал эти слова, полные безумной самонадеянности, и они появились в Писании.
«Господи! да не будет этого с Тобою!» Петр просит Иисуса отказаться от страдания и смерти. Но для Иисуса в этой просьбе – тот же соблазн, что в речах сатаны, искушавшего Его в пустыне. Петр не хочет, чтобы Спаситель запятнал Себя страданием. Он еще надеется, что Царства Божьего можно достигнуть легким путем, но это – путь сатаны. Путь Бога – это скорбный путь.
Богословы спорят о том, когда же Иисус понял, что Он должен страдать и умереть. Из Библии ясно следует, что эта мысль появилась задолго до Кесарии Филипповой. Замысел был предвещен еще в книге Бытие 3:15: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Это как бы протоевангелие, предчувствие грядущей Благой вести.
Мысль о страдающем Мессии отражена у Исаии в образе страдающего Раба. Почтенный пророк Симеон предсказал это Марии в храме: «Се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, – и Тебе Самой оружие пройдет душу, – да откроются помышления многих сердец» (Лк. 2:34–35).
Мы не знаем точно, когда Иисус осознал Свою судьбу, но Его Мать услышала предсказание о грядущей смертельной боли уже в первые недели Его жизни. Иисусу было двенадцать, когда Он сказал, что Ему должно быть в том, что принадлежит Отцу Его. Значит, к тому времени Он уже сознавал эту обязанность, долг, который предстоит Ему исполнить. Мы можем только предполагать, в полной ли мере Он понимал смысл этого долга, но в Гефсимании, конечно, Он уже знал все. В саду, горюя, Он говорит ученикам: «Душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со Мною» (Мф. 26:38).
Мы читаем в Писании, что, сказав эти слова, Иисус отошел дальше в оливковую рощу и, упав на лицо, молился: «Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем, не как Я хочу, но как Ты» (Мф. 26:39). В Евангелии от Луки эти слова дополняются: «И находясь в борении, прилежнее молился, и был пот Его, как капли крови, падающие на землю» (Лк. 22:44).
Если Бог говорит «нет» – такова Его воля
Удивительно! В Библии так ясно обо всем сказано, а кто-то смеет предполагать, что больному телом или душой нельзя молиться словами: «Да будет воля Твоя!» Нам говорят: когда болезнь настигает нас, Бог всегда хочет исцеления, Он не имеет ничего общего со страданием, мы должны требовать ответа, который мы от Него ждем. Нас призывают требовать от Бога, чтобы Он сказал «да», прежде чем Он вообще заговорит с нами.
Нельзя так искажать библейскую веру. Это задумал искуситель; это он соблазняет нас заменить веру колдовством. В какие бы благочестивые словеса не облекалась такая ложь, она не станет истиной.
Иногда Бог говорит «нет». Иногда Он призывает нас страдать и умирать, даже если мы очень этого не хотим. Никто не молился прилежнее, чем Иисус в Гефсимании. Кто обвинит Иисуса, что Ему не достало веры в молитве? Он просил Отца, и пот Его был, как кровь: «Да минует Меня чаша сия».
Иисус молился горячо и искренне. Он просил Отца облегчить Его участь. Он просил пронести горькую чашу мимо Его губ. Каждая клеточка Его человеческого тела рвалась прочь от чаши. Он умолял Отца избавить Его от этого долга. Но Бог сказал «нет». Страдание входило в Его план. Это была воля Отца, Его собственная настоящая воля. Крест замыслил не сатана. Страсти Христовы – не результат случайности. Их замыслил не Каиафа, не Ирод и не Пилат. Чашу подготовил, передал и назначил Всемогущий Бог.
Молитва Иисуса правильна, потому что Он добавляет: «Да будет воля Твоя». Он ничего не требует. Он достаточно знает Отца, чтобы понимать: возможно, Он просит неосуществимого. История эта не заканчивается словами: «Отец раскаялся в том зле, которое задумал, пронес чашу, и Иисус жил долго и счастливо».
Такие слова граничат с богохульством. Евангелие – не волшебная сказка. Отец не стал бы обсуждать условия. Иисус был призван испить чашу до последнего глотка. И Он принял это. «Впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет» (Лк. 22:42).
Это «впрочем…» – величайшая по своей вере молитва. Молитва веры – не самонадеянное требование, которое мы предъявляем Богу. Она не предполагает заранее, что просьба будет удовлетворена. Истинная молитва веры подобна молитве Иисуса. Она произносится в духе кротости. Как бы мы ни молились, мы должны понимать, что Бог – это Бог. Никто не может указывать Отцу, что делать, даже Сын. Молитвы всегда должны быть смиренными и покорными воле Отца.
Молитва веры – это молитва доверия. Самая суть веры – доверие. Мы доверяем Богу, то есть мы верим: Бог знает, что лучше для нас. Тот, кто доверяет, готов сделать то, чего хочет от него Бог. Это доверие и воплощал Христос в Гефсиманском саду.
Хотя в тексте и не говорится об этом, но совершенно ясно, что Иисус покидал сад, уже получив от Отца ответ на Свою мольбу. Он не проклинал, не злился. Его плоть и кровь должны были исполнить волю Отца. Как только Отец сказал «нет», все было решено. Иисус подготовил Себя к кресту, Он не спасся бегством из Иерусалима, но спокойно вошел в город.
Искупление страданием
В жизни и страстях Христа мы яснее всего видим, что страдание – это путь, избранный Богом, чтобы искупить падший мир. Мы знаем, что Иисус познал скорбь и горе. Его жизнь и служение в мелочах соответствуют образу страдающего Раба из Книги Исаии.
В Книге Деяний мы читаем замечательную историю:
А Филиппу Ангел Господень сказал: встань и иди на полдень, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста.
Он встал и пошел. И вот муж Ефиоплянин, евнух, вельможа Кандикии, царицы Эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию.
Дух сказал Филиппу: подойди и пристань к сей колеснице. Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: разумеешь ли, что читаешь? Он сказал: как могу разуметь, если кто не наставит меня? И попросил Филиппа взойти и сесть с ним.
А место из Писания, которое он читал, было сие: «как овца, веден был Он на заклание, и, как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзает уст Своих. В уничижении Его суд Его совершился. Но род Его кто разъяснит? ибо вземлется от земли жизнь Его».
Евнух же сказал Филиппу: прошу тебя сказать: о ком пророк говорит это? о себе ли, или о ком другом?
Филипп отверз уста свои и, начав от сего Писания, благовествовал ему об Иисусе (Деян. 8:26–35).
«Кто Раб Господа?» Эфиопский евнух задает решающий вопрос. Он читал пятьдесят третью главу Книги пророка Исаии и был озадачен. Главный его вопрос: «О ком пророк говорит это? о себе, или о ком другом?» Филипп отвечает прямо: Исаия говорит об Иисусе.
Все это может показаться настолько очевидным, что читатель спросит, почему я так распространяюсь и трачу столько времени. Новый Завет до того ясно отождествляет Иисуса со страдающим Рабом, что споры вроде бы не нужны.
Но это важно, очень важно. Без этого мы не поймем не только Иисуса, но и собственное страдание. Более того, не думаю, что преувеличу, если скажу: ответ на этот вопрос либо возносит, либо принижает Его образ.
В наше время существует точка зрения, что все уподобления Иисуса страдающему Рабу вымышлены авторами Нового Завета. Одним словом, библейские авторы обманули нас, подправив Его историю. После того как Он страдал и умер, ранняя церковь вынуждена была так исхитриться, чтоб объяснить все Его страдания. Вот и появилась параллель между страдающим Рабом у Исаии и Иисусом. А уж потом они вложили в уста Иисуса слова, которых Тот никогда не произносил.
Критики пытались разрушить библейское видение Христа. Но им не удалось это. Если что и известно нам об истории Иисуса, так то, что Он страдал и умер, как Раб Божий.
В Евангелии от Луки Иисус произносит такие слова:
Ибо сказываю вам, что должно исполниться на Мне и сему написанному: «и к злодеям причтен». Ибо то, что о Мне, приходит к концу (Лк. 22:37).
Иисус прямо цитирует 53 главу Исаии. Он Сам отождествляет Себя со страдающим Рабом Божьим. Господь призвал народ Израиля к страданию, и призвание это кристаллизовалось в одном человеке. Один человек явил в себе весь Израиль. Филипп отвечает ясно и определенно: этот человек – Иисус.
Иисус страдал за нас. Однако и мы призваны разделить Его страдание. Хотя Он единственный исполнил пророчество Исаии, есть и для нас применение в этом призвании. Нам даны и долг, и привилегия участвовать в страдании Христа.
Загадочная ссылка на это содержится в посланиях Апостола Павла:
Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за Тело Его, которое есть Церковь.
Здесь Павел говорит, что он радуется в страданиях. Конечно, он не имеет в виду, что ему нравится боль или несчастие. Скорей, причина его радости – в значении его страданий. Он говорит, что он «восполняет недостаток скорбей Христовых».
На первый взгляд объяснение это удивляет. Чего может недоставать в страданиях Христа? Разве Он только наполовину искупил нас? Или может, Он ждал, что Павел доделает то, чего Он не смог? Значит, Христос преувеличивал, когда кричал с креста «Свершилось»?
Чего же не хватало в страданиях Христовых? Говоря о ценности Его страданий, богохульно утверждать, что чего-то недоставало. Заслуга Его искупительной жертвы бесконечна. К Его совершенному послушанию невозможно добавить ничего, чтобы сделать его еще совершенней. То, что абсолютно совершенно, не может быть ни преувеличено, ни преуменьшено.
Заслуга Иисуса достаточна, чтобы покрыть любой грех, который когда-либо был или будет совершен. Его искупительная смерть не нуждается в повторе, Он искупил нас раз и навсегда. Ветхозаветные жертвы в точности повторяли друг друга, потому что они были лишь несовершенными тенями грядущей реальности.
Не случайно Католическая церковь обращается к словам Павла в этом тексте, чтоб поддержать свое учение о совокупных заслугах, согласно которому заслуги святых добавляются к заслуге Христа и так же покрывают пороки грешников. В глазах протестантских реформаторов эта доктрина сметает все на свете. Она принижает достаточность и совершенство Христовых страданий. Мартин Лютер протестовал именно против этого.
Хотя мы категорически отрицаем католическое толкование этого отрывка, наш вопрос никуда не исчез, – если страдания Павла не добавляют заслуг и не восполняют недостатка в страданиях Христа, тогда что же все это значит?
Чего не хватает в нашем страдании
Ответ на этот трудный вопрос лежит в совершенно определенном учении Нового Завета. Верующие призваны быть униженными вместе с Христом, поскольку мы в смерть Его крестились. Павел много раз говорит, что пока мы не хотим участвовать в унижении Христа, мы не будем участвовать и в Его возвышении (см. 2 Тим. 2:11–12).
Павел радуется, что его собственное страдание пошло на благо Церкви. Церковь призвана подражать Христу. Она призвана пройти по крестному пути. Излюбленная метафора Павла о Церкви – образ человеческого тела. Церковь названа телом Христа. В каком-то смысле можно сказать, что Церковь – постоянное воплощение Бога. Церковь – мистическое тело Христа на Земле.
Христос настолько связывает Церковь с Самим Собой, что когда Он в первый раз обратился к Павлу на пути в Дамаск, Он сказал: «Савл, Савл! что ты гонишь Меня?» Савл не преследовал Иисуса. К тому времени Он уже взошел на небеса и был недосягаем для ненависти. Павел участвовал в гонениях на христиан. Но Церковь – тело Иисуса, и тот, кто нападает на нее, гонит и Его Самого.
Церковь принадлежит Христу. Христос ее искупил. Церковь – Невеста Христова. Христос пребывает в ней. Но Церковь – это не Христос. Христос – совершенен, Церковь – несовершенна. Христос – Искупитель; Церковь входит в то, что Он искупил.
Церковь участвует в страдании Христа. Но это участие не добавляет заслуг к Его заслуге. Христиане могут страдать во благо других людей, но их страдания всегда далеки от искупления. Я не могу искупить грехи других, и даже свои собственные. Но мое страдание может принести другим большую пользу. Оно может послужить и свидетельством о Том, Чьи страдания нас искупили.
Слово «свидетельство» в Новом Завете – martus, от него происходит английское «мученик». Те, кто страдал и умер за дело Христово, названы мучениками, потому что свидетельствовали своим страданием о Христе.
Чего же не хватает в скорбях Христовых? Не хватает тех страданий, которые Бог предназначил Своему народу. Бог призывает людей всех поколений исполнить Его божественный замысел искупления. И опять же страдание это не дополняет недостаток в заслуге Христа. Это наша судьба, свидетельство о совершенном страдающем Рабе Божьем.



