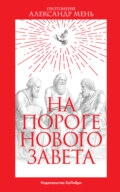протоиерей Александр Мень
Быть христианином
Иисус, проповедующий мораль, – это исторический миф. За одно это не могли б его распять.
Иисус, назвавший себя мессией? Ну, почему ж тогда не распяли Бар-Кохбу, который тоже называл себя мессией? И много было лжемессий. Чем вызвал Он такую любовь и такую ненависть? «Я есть дверь», – сказал Он. Дверь в вечность. И мне кажется, что все ценное в христианстве лишь потому ценно, что оно Христово. Если оно не Христово, оно в такой же степени принадлежит исламу или буддизму.
Всякая религия есть путь к Богу, догадка о Боге, приближение человека к Богу. Это вектор, устремленный снизу вверх. А явление Христа – это ответ. Это вектор, идущий с Неба к нам. С одной стороны – находящийся в рамках истории, с другой стороны – ни на что не похожий.
Христианство потому уникально, что уникален Христос.
Теперь давайте подумаем о том слушателе, который сейчас находится на распутье: ну хорошо, откуда я знаю, что Христос действительно был Тем, за Кого Себя выдавал? Откуда я знаю, что Библия говорит правду? Как мне разобраться в разных религиях? Что мне ответить родителям-атеистам или кришнаитам, которые на площади танцуют? Почему я должен приходить ко Христу? Только потому, что отец Александр, или Марк Макаров, или другие считают, что Библия говорит правду? Как мне проверить, правы ли они?
Во-первых, для человека, который все-таки имеет какие-то религиозные представления, ответ может быть тот же, что я уже сказал: надо верить всем. Если мы верим, что Магомету открылся Бог, – почему мы должны делать исключение для Основателя христианства и отвергать Его свидетельства? Если мы верим, что Бог открывается, – Он открывается всем по-разному. И я верю, что в каждом великом учителе Бог как-то действует, поэтому нет никакого основания говорить: «А вот Иисуса Христа мы отстраним». Нет. Они все правы – значит, прав и Он, сказавший о Себе: «Я и Отец одно».
Но если мы говорим о безрелигиозном сознании, то я отвечу словами Писания. Вы прекрасно помните, что ответили апостолы Нафанаилу: «Пойди и посмотри».
Это то, что надо увидеть, почувствовать, то, что надо пережить. Нельзя математически доказать красоту Девятой симфонии или какой-нибудь великой картины – скажем, рублевской «Троицы». Ее надо сначала увидеть, с ней надо осуществить внутреннюю встречу – и поэтому Христа надо искать и попытаться с Ним встретиться. И если этого не будет – никакая система доказательств не может быть здесь убедительной, она будет только, так сказать, схемой, мертвой схемой. И верить во Христа надо не потому, что кто-то сказал, а потому, что это сказанное призывает тебя самого: узнать.
Вера – от слышания, говорит апостол. И вспомните, что было с самарянами, когда пришла женщина и сказала им: «Вот такой человек, мне все предсказал». Они удивились, и когда пошли и послушали Иисуса сами, они сделали вывод: «Вот теперь-то мы уже сами это поняли. Не потому, что ты нам говорила, а мы поняли на собственном опыте».
Это – научный подход, сугубо научный. Дело в том, что наука без опыта далеко не может продвигаться. Вот и в данном случае опыт играет огромную роль. Здесь опыт внутренний, духовный. Это реальность, с которой человек должен встретиться. Если он хочет о ней судить, не пытаясь с ней встретиться, к ней прикоснуться, то эта попытка с негодными средствами. Увидеть Христа можно только сердцем. Научно (чисто, так сказать, внешним путем) можно узнать другие вещи: что Он действительно существовал, какова была среда, которая Его окружала, и так далее. Эти вопросы – важные, но для веры они вторичные.
А как быть тем людям, которые настолько глубоко восприняли свое атеистическое воспитание (и таких людей немало), что слушают нас сейчас и думают: «Оно бы хорошо, если б все было так, как вы говорите, но ведь всем же известно, что Бога нет».
Я думаю, что наоборот – всем известно совершенно противоположное. Именно (я с этого и начал) массовое идолопоклонство людей, у которых отняли Бога, доказывает (и это, кстати, еще Мао Цзэ-Дун понял) – доказывает, что человек не может существовать без Бога.
Бог есть исходное начало для всего; потому что человек живет в мире только потому, что верит в смысл этого мира. Еще Альберт Эйнштейн говорил: человек, который не верит в смысл бытия, – непригоден для жизни, вообще. Значит, любой атеист, который говорит, что он не верит в смысл бытия, на самом деле, в глубине души, в подсознании – он верит, и подменяет это разными другими этикетками.
Человек стремится к воде, потому что она ему нужна, – это объективно. Ему нужна пища – это объективно; и многое другое.
Ничего вымышленного нет. Если человек стремится всегда видеть некий высший смысл бытия, и перед ним благоговеть, и с ним соотносить свою жизнь, то это значит, что эта потребность – не просто продукт какого-то болезненного состояния, а нормальное состояние человеческого рода.
И если человек сейчас оглянется назад, он увидит, что всегда, во все века, Бог в той или иной форме присутствовал. Я сейчас вдруг вспомнил основателя позитивизма Огюста Конта. Это был человек, который не агрессивно, но отрицал высшие ценности, и о Боге он говорил как о некоем Непознаваемом, о котором нельзя ничего сказать. Он умер стоя на коленях перед алтарем. Но этим алтарем было кресло любимой женщины (умершей тоже). Это кресло он окружил почитанием и благоговением. Кстати, он (О. Конт) первый выдвинул идею храмов человечеству – гранд этр — великого существа, человечества, которое надо почитать. Если просмотреть историю всех псевдорелигий, то мы увидим, сколь неискоренимо это чувство Высшего, необходимость его связи с человеком.
Ну, а другое – это свидетельства косвенные; в вашей литературе (кивок в сторону полки, где стоят книги протестантских издательств. – М. М.) об этом достаточно сказано, да и в нашей тоже что-то писалось на эту тему. Я приведу простой пример.