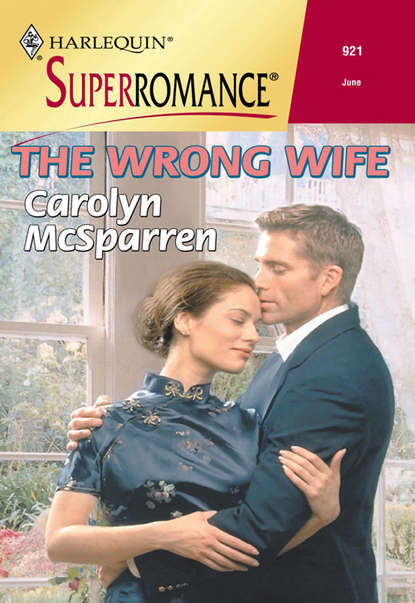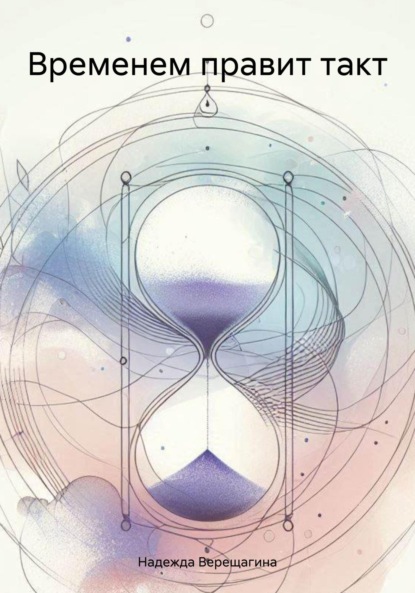Седьмая щелочь. Тексты и судьбы блокадных поэтов
*НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ БАРСКОВОЙ ПОЛИНЫ ЮРЬЕВНЫ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА БАРСКОВОЙ ПОЛИНЫ ЮРЬЕВНЫ. Разговор о блокадном письме необходим хотя бы для того, чтобы засвидетельствовать: уже во время блокадного бедствия велась огромная, многоцелевая и многожанровая работа словесности по описанию, осознанию, отражению блокадного опыта. Восстанавливая эту работу сегодня, мы обращаемся к задаче создания языка, которым о блокаде может говорить не переживший ее, но отвечающий за нее и не желающий ее полного забвения. Изучая работу блокадных поэтов, мы видим, что они искали язык, который бы утолял боль жертвы истории и запечатлевал историю, пытаясь примирить эти далековатые задачи.