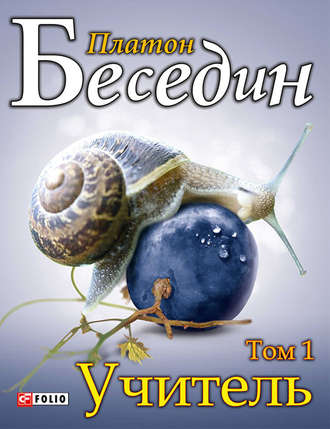
Платон Беседин
Учитель. Том 1. Роман перемен
С этими мыслями я обычно прохожу серое здание пустующего универмага. Большинство теперь закупается на рынке, он тут же, рядом, или в металлических шестигранниках ларьков, где стригут, ремонтируют, торгуют продуктами, инструментом, химией, лекарствами, семенами. Но я сам хожу за покупками в универмаг, чувствую с ним родство. Он, как и я, вырван из этой ларечной жизни. И самое мерзкое – не по своей воле.
Но сегодня мне надо гнать эти мысли. Сегодня надо быть мужчиной, который все может. В частности, крышесносить Раду.
Через сосновую лесопосадку захожу в покосившиеся ворота стадиона «Спартак». Бетонные трибуны, ярусами нависающие над землей, используются как отхожее место. Так активно, что непонятно, как пробираются к стенам трибун те, кто чертит на них странные в своей бессмысленности надписи вроде «Коля – фрик моржовый» или «Аня хабалка и давалка». Больше других умиляют слова и предложения, выведенные белым штрихом, аккуратно, округло, точно ребенок писал; злой ребенок, судя по содержанию.
Несмотря на вонь, подняться на трибуну, сесть в центре – здесь мне нравится больше всего – и, пережидая хождения людей на работу, учебу, еще раз проговорить план крышесноса, отмечая ключевые моменты в тетради для русского языка. Тут главное – символика, неожиданность, романтика.
За символизм будет отвечать дерево. Больший символ представить можно, но незачем. Дерево любви, которое мы посадим на холме с видом на море. Остается его найти. Сначала я хотел выкопать одно из тех, что растет у нас на огороде. Но мама или бабушка, уверен, обязательно бы заметили, начались бы расспросы, подозрения, разрастающиеся нелепыми, жуткими версиями, масштабу которых до черноты завидовал бы автор криминальной хроники в «желтой» газетенке. Поэтому я решил выкопать невысокое стройное деревце, растущее на заднем дворе школы.
Дожидаюсь, когда начинается пятый урок. Десять минут от звонка. Покидаю «спартаковские» трибуны. Миную баптистскую церковь – одноэтажный кирпичный сарайчик, у входа в который висит табличка «Дом молитвы», крыша настелена битым шифером. Однажды мне стало интересно – хотя, скорее, я мстил бабушке за излишнюю религиозную настойчивость и радикальное привитие догмами, – что там у них происходит, и, проходя мимо, спросил, казалось, измученную вечной бессонницей женщину в ситцевом платке: «Когда у вас начинается служба?» Взгляд ее был одинок, затуманен – теленок, которого мы держали до смерти деда, жуя целлофановые пакеты, смотрел точно так же. Говорила она тихо, с надрывом, будто внутренние спайки после операций растягивались и болели.
– Собрание в девять часов.
Видимо, никто не служил – лишь собирался. И я не пошел в баптистскую церковь.
В школу я прихожу к середине пятого урока. Физкультуры на улице нет. По вторникам физрук пьет в подсобке, зажав голову между ободранными локтями влажных распаренных рук. Ученики еще не слишком измучены, чтобы, не слушая преподавателя, пялиться в окна, но и не слишком бодры, чтобы вертеть головами, зондируя обстановку.
Иду по колючему бурьяну. Забор в школе есть лишь со стороны дороги; видимо, чтобы, проезжая, не думали, как хреново мы в Каштанах живем – нормально живем, чего уж там, не жалуемся, да и кому тут, будьте вы городские и районные твари прокляты, пожалуешься. Нераспаханная, поросшая бурьяном местность с полной мусора ямой переходит в задний двор школы.
Давно некрашенные, с пятнами ржавчины турники, брусья, лабиринты, рамы в своей беспорядочности расположения и форме напоминают сваленные в груду выпотрошенные кишки, которые я, когда дед убивал и разделывал свинью, рассовывал по пакетам в сарае, чтобы потом сварить курам и покрошить в комбикорм. На площадке пусто. Под раскидистым кленом мутнеет годами не исчезающая овальная лужа. Из нее торчит бело-зеленый пакет мусора.
Мое дерево растет дальше, нужно обогнуть турники и пройти за ободранный угол школы. Вот оно. Хоть в мыслях и казалось мне больше, зеленее, стройнее.
Достаю из рюкзака специально взятый мастерок – лопата бы насторожила, – копаю землю, стараясь не повредить корни, похожие на паучьи лапки, которые не уходят, а скорее липнут к земле. Не оторвать. Приходится рубить краем мастерка. Наконец освобождаю ствол, закутываю его в тряпку.
Теперь уходить, но не слишком быстро, чтобы не решили, будто я скрываюсь, как вор. Хотя почему как?
Мысль эта останавливает, впечатывает. Ведь только что я украл! Не взял, не одолжил, а именно украл. Пусть деревце, пусть не у кого-то лично (впрочем, по сути, я забрал его сразу у сотни детей), но украл. И совершил грех бессознательно, не задумавшись ни на миг. Как в туалет сходил. Или перекусил купленной в «Огоньке» булкой.
Хотя с детства мне внушали, обрабатывали, чтобы не крал. Помню крики деда Филарета на моего отца, который нес из разваливающегося колхозного автопарка инструменты, крепеж, смазку и складировал это добро в гараже деда. К себе он нести его не решался, потому что моя тетка, Ольга Филаретовна, к которой он перебрался после встреч с матерью, могла все забрать себе.
Дед отца ненавидел. Но обструкцию устраивал редко. Лишь когда выпивал. А выпивал он пять или шесть раз в год, стараясь употреблять то «Столичную» водку, то крымское пиво, то самодельное вино. Не пил он лишь самогонки, хотя несколько лет сам гнал ее. Не на продажу, а, наверное, потому, что все гнали. Дед был тщедушный, молчаливый и добрый.
Тем страннее, что он так злился – вслух, громко, с позицией, точно говорил про татар, которых ненавидел, – когда отец приносил из автопарка «заимствованные» вещи.
– Зарплату не платят, а ты меня, старый козел, – кричал отец, – жизни учишь? Жить, ебана мать, на что?!
– Проживешь, Лешка, – отвечал дед, – а брать чужого не смей…
Отца он, конечно, так и не перевоспитал. Тот продолжал растаскивать колхозное имущество, до сих пор разложенное у нас в гараже: молотки, гвозди, зубила, отвертки, резиновые прокладки, медные провода, моторы.
Я спрашивал деда, почему он так ругает отца. Вор! Вор! Вор! Злился дед, а я отвечал услышанной по телевизору фразой «все воруют».
– Все, – соглашался дед, – ну и что? Бога в душе держать надо…
А я, заводясь, как часто бывало со мной в споре, доказывал, что, не воруя – не проживешь. Доказывал развлечения ради. И однажды я доканывал деда так долго, что он, подняв левую руку, не выдержал, спросил:
– Вишь, двух нет?
У него не было мизинца и безымянного пальца.
– Помню, дед, на станке тебе их оторвало.
– Брехня, – помотал головой дед, – скажу, но ты молчком.
– Я молчком.
– Принеси яблочко, Аркаша.
Я принес ему красное яблоко. Он принялся мять, жать его.
– Каленое больно, зубов жевать нет.
Он домял яблоко, укусил и, жуя, начал рассказ:
– Жили мы в Новоселкино, под Севском. Отца и старшего брата забрали на фронт, а меня двенадцатилетнего оставили. Школы закрыли, и я бегал с остальными пацанами по селу, искал еду, помогал матери. Пока не пришли фрицы.
Напротив меня, через улицу, жил Яшка, на год младше. Его отец, Абрам Савельич, был таким старым, немощным, что больше походил – так все и думали – на деда. Он держал мастерскую, где, сгорбившись, всегда что-то чинил, штопал, правил. Один глаз Абрама Савельича был прикрыт бельмом, а другой косил в сторону. Когда я встречался с ним, то боялся смотреть в лицо, хотя человеком он был отзывчивым, добрым и часто угощал детей круглыми, похожими на медальки, леденцами из жженого сахара.
Мать Яшки видели редко. Она, в основном, сидела дома. Говорили, что харкает кровью – болеет чахоткой. Я иногда видел ее во дворе их дома. Чаще всего с большим алюминиевым тазом, который она с видимым усилием ставила на деревянную скамейку и стирала белье, развешивая его на протянутых вдоль кособокого сарая веревках.
Когда пришли фрицы, то семью Яшки арестовали. Штаб немцев располагался в кирпичном здании сельсовета, возле которого на площадь сгоняли сельчан. Начальником у фрицев был жирный, словно не война шла, краснорожий блондин с протезом вместо левой ноги ниже колена. Но его не боялись. Страшил зам – высокий, наголо бритый фриц со шрамом через все лицо. Вот его боялись по-настоящему. Он всегда и выступал перед собравшимися.
Тогда я тоже стоял на площади – обязали прийти всех, – испуганно уцепившись за костлявую ногу мамы, хотя давно считал себя бесстрашным и взрослым. Переводил фрица бородатый мужик в грязном тулупе. Накрапывал мелкий дождь, и без того размокшая площадь окончательно превращалась в жижу.
Яшка и его родители, голые, лежали в ней. А рядом старательно, точно школьник, выводил слова бритый фриц. И, казалось, чем больше он говорил, тем сильнее темнел его шрам. Из перевода я почти ничего не понял. Уловил лишь то, что семья Яшки – выродки и евреи. Одно следовало из другого, но я не помню, что из чего: то ли евреи, потому что выродки, то ли выродки, потому что евреи.
Затем семью Яшки подняли. Я вздрогнул. Мама закрыла мне ладонью глаза, но я уже и сам зажмурился, кода увидел тела, перепачканные кровью и грязью. Похожие скорее на разделанные туши коров, которые я помогал грузить отцу на бойне, чем на людей. Рты были закрыты обрубками, примотанными колючей проволокой, шипы впивались в грязную кожу, раздирая ее в кровь.
Я жался к ноге матери и сдерживался, чтобы не описаться. Несмотря на зажмуренные глаза я видел окровавленные тела перед собой, помнил, что в паху Абрама Савельича алеет уродливая рана. И нечто внутри меня призывало: «Открой глаза! Посмотри, посмотри!» Ужас отвратителен. И притягателен. Может, еще больше, чем красота.
Злясь на себя, я все-таки приоткрывал глаза и сквозь мамины пальцы косился на площадь. Накинув на шеи веревки, тела волокли по грязной жиже. Левое ухо Яшки висело на кровавых волокнах, похожих на дождевых червей. Когда тела изваляли в грязи, принялись бить ногами. Больше всех старался бритый фриц. Ему заметно нравилось. Тела изгибались в позвоночнике.
А потом – бородатый переводчик повторил это несколько раз своим низким гортанным голосом, после чего украдкой перекрестился – каждый должен был плюнуть в лежащих. Тех, кто откажется, крикнул переводчик, повесят вместе с жидами.
Никто не отказался. Плюнула в жидов и мать. Плюнула в сторону, стараясь не попасть в Абрама Савельича, Сару и Яшку. Я же закрыл глаза, сжимая веки так, что в голове зажгло, зашумело. Мысль помочь, спасти была насколько закономерной, настолько и слабой, несмелой. Будто она сама себя опасалась, прячась в угол сознания. Первый раз я боялся за свою жизнь. И первый раз понимал, что она есть такое.
Их троих повесили на площади. Они болтались неделями. Проходя мимо, люди отворачивались. И фрицы, и русские. Потом трупы сняли. Остались лишь виселицы. И воспоминания.
Но мы все равно бегали у сельсовета, где фрицы глушили шнапс, чистили оружие, курили. Иногда они забывали сигареты. Тогда мы хватали их и мчались прочь. После махорки, которую до этого мы выпрашивали у наших солдат или воровали из дома, фрицевский табак казался истинной благодатью. Курили сигарету гурьбой. Но прежде чем задымить, становились в кружок и пускали по кругу, рассматривая, принюхиваясь. А еще больше хотелось, мечталось достать фрицевскую зажигалку – бензиновую, с фигурным пламенем. Все ребята хотели такую, а я, пожалуй, сильнее других.
Тогда я носил фрицам молоко, оставляя трехлитровую банку на проходной. Но в тот раз постовой, кажется, спал. Он стоял, привалившись к стене, сложив на автомате мохнатые ручищи, похожие на лапы животного: огромные, покрытые жесткими курчавыми волосами. Я рассматривал, изучал их досконально, словно жаждал узнать некий секрет. Потом наконец опустил банку и хотел было идти, но на высоком с глубокой трещиной пне заметил пачку сигарет. А рядом лежала та самая зажигалка – металлическая, блестящая, пахнущая бензином, с колесиком и гравировкой. Мечта! Замерев, я любовался ею.
Фриц спал, каска его свалилась на лоб, переползая от шишковатого носа к до синевы выбритому подбородку. Это был скорее не немец – мадьяр.
Наша соседка, бабушка Груша, у которой фрицы отыскали иконы и хотели вздернуть ее за это, но ограничились тем, что порубили лики Христа, Богородицы, Николая Угодника, советовала, чтобы мы избегали румын и мадьяр. «Немец, он не такой лютый, – шамкала бабушка Груша, – как мадьяр или румын, вот те нелюди истые». Приходя к нам домой, она, сидя у давно нетопленной печки, рассказывала, как была в Дебрецене и видела там мадьяр. Ироды, безбожники, нехристи! Смотрела на них и молилась Богородице, чтобы до нас не дошли. Видать, не услышала грешных молитв Богородица, наказала мадьярами, что колют младенцев прямо во чревах.
При виде спящего постового я невольно вспомнил слова бабушки Груши и захотел уйти. Но желание это соперничало с лютым вожделением зажигалки. Вот она – протяни руку, а после – беги, беги! И мечта твоя сбудется, и навсегда ты самый важный среди новоселкинских пацанов! Будто два человека с разными характерами, устремлениями перетягивали во мне канат. И победил тот, кто был яростнее, наглее, беспринципнее.
Я протянул руку и медленно положил пальцы с полумесяцами грязи под ногтями на сталь зажигалки. Холодная, суровая, важная. Погладил ее, чувствуя гравировку. Провел мизинцем по рельефной стали колесика, нежно, мечтательно. Надо было всего лишь сомкнуть пальцы, схватить зажигалку и бежать прочь – я понимал это, но не мог ничего поделать с убийственной растянутостью момента.
– Киндер!
Лет в шесть, наверное, Сашка Борзыкин, разозлившись, швырнул мне в спину насосный вал. Он ударил в лопатку и опрокинул на землю. Тупой пронзающей болью, но главное – неожиданностью. Крик, раздавшийся позади меня, оказался чем-то сродни удару вала. Я отдернул руку от зажигалки и почему-то рухнул на землю, обхватив голову руками.
Меня тут же саданули по пояснице. Я вспомнил, как таскали на площади Яшку, а потом вздернули на виселице. Вспомнил и обмочился. Рывком меня подняли на ноги. Их было двое. К проснувшемуся мадьяру добавился смуглый здоровяк с воспаленными красными глазами. Он тряс меня за плечи. Я болтался, как тряпочный, неживой.
Мадьяр несколько раз ткнул мохнатым пальцем в зажигалку. Что-то крикнул, но, в целом, вел себя не так яростно, как здоровяк. Тот перевернул меня, заломив руки. Мадьяр сгреб пачку и зажигалку. Отошел. Здоровяк повалил меня головой на освободившийся пень. Он не прекращал кричать, и, дурея от ужаса, я как бы тонул в болоте.
«Хаун» – это слово чаще всего я слышал от здоровяка, прижимавшего меня к пню щекой. Боковым зрением я увидел, как мадьяр поигрывает топором, точно примеряясь к удару. Наверное, я бы обмочился повторно, если бы было чем. Но внутри присутствовал лишь разъедающий необратимостью страх, отнимающий силу и обращающий в прах.
Мадьяр взвесил топор на руке и отошел. Весь я превратился в ожидание, оставляющее сотни морщин.
Закрыл глаза. Единственное движение, на которое оказался способен. Скрученные здоровяком руки выламывало ноющей болью, и она ползла вверх по сухожилиям, мышцам, пронзая плечи, переходя в шею. Извивающаяся змея, стремящаяся отравить, одурманить разум.
И вдруг еще один крик. Этот звучал по-другому. Уверенно, властно. Хватка ослабла. Я смог пошевелить руками.
– Вэйки!
Я встал на затекшие ноги. В дверном проеме серой глыбой нависал огромный белокурый мужчина, накинувший на эсэсовскую форму черный плащ. Я почему-то сразу решил, что это офицер. Он изрыгал крики, точно швырял во врагов гранаты. И врагами, я почувствовал это явно, были два фрица, которые собирались отрубить мне голову за попытку украсть зажигалку. Здоровяк молчал, угрюмо косясь на меня, а мадьяр, наоборот, эмоционально, с огромным количеством слюны и жестов, отбивался от «гранат» офицера. Периодически он тыкал в меня мохнатым пальцем и вертел зажигалкой.
Громкость криков офицера постепенно снижалась, и наконец он, как бы соглашаясь, закивал головой. Мадьяр еще эмоциональнее зажестикулировал. Офицер крикнул на здоровяка, и тот, просветлев, выкрутил мне правую руку. Мадьяр же схватил левую и положил на пень.
Офицер подошел. Лицо крупное, бледное, собранное, будто высеченное из мрамора. Он взял торчащий из влажной земли топор и, не примеряясь, быстро ударил по моей пятерне. Не знаю, метил ли он или бил наугад, но два обрубка – мизинца и безымянного пальца – остались на пне. Мадьяр и здоровяк тут же отпустили меня. Я вскочил, задыхающийся, шаленеющий от боли, а еще больше от вида крови, и заорал, выставив изуродованную руку перед собой. Мадьяр засмеялся. Здоровяк дал мне подзатыльник. А офицер молча развернулся и пошел прочь.
Я заметался, кропя землю кровью, и в этом, наверное, был особенный символизм. Мадьяр закурил, схватил палку и несколько раз ударил ею мне по голове, гоня прочь. Я, кажется, плюнул в него и побежал.
Кровь била из раны. Сначала ярко-красная, затем темная, и, мчась по улице, я решил, что умру. Мысли в голове перемешались, но одна была четкой и ясной – оказаться дома.
Меня поймали на углу Лесной улицы. Две женщины, несущие доски, увидели и бросились останавливать. Я сопротивлялся, отбрыкивался, кусался. Одна тут же бросила меня. Но другая, сбитая, крупная, с мужицкими руками, держала крепко, не реагируя.
Они перевязали рану, обработав ее свекольным соком. И отвели домой.
– Вычухался я, – договорил дед и швырнул яблочный огрызок в канаву. – Жесточее с ворами надо…
Стоя с выкопанным деревом в руках, я вспоминаю историю деда, и воображение, гипертрофированное от чтения книг, на миг пуляет картинку физрука, выбегающего из школы с топором в руках. Оставить дерево. Так будет правильнее. Но мысль о том, что без этого свидание с Радой потеряет смысл, перевешивает, и все-таки я ухожу с деревом, завернув его в мокрую тряпочку. Прячу добычу на «Спартаке».
А затем приговариваю время, шляясь по Абрикосовому переулку. Дома здесь одноэтажные, неказистые. Двухэтажный только один, но в нем никто не живет. Отделанный по углам серой плиткой, он выкрашен в светло-красный. Шторы задернуты. За домом никто не ухаживает, не следит, не латает. Но своего внешнего вида он не меняет. Во дворе – сухие деревья, высокий бурьян, жуткие ржавые качели. Их видно с улицы. В деревне вообще все видно с улицы. Заборы низкие, поднял ногу – перемахнул.
Светло-красный дом опустел, когда я был совсем маленьким. Говорят, в нем доживала век старая бабка, работавшая при Брежневе ветеринаром. При Горбачеве ее выгнали из колхоза. И она возненавидела Михаила Сергеевича. Еще и потому, что любила водку, а при Горбачеве пить стало сложнее. Надо было вертеться, изгаляться, придумывать. Бабка же, говорят, была ленива.
Сначала она сидела на крыльце. Метила проклятиями в проходящих, проезжающих. Но все привыкли. Это ее бесило. И она пошла по селу, бомбардируя проклятиями. Люди терпели, жалели. И это разозлило ее еще больше. Она стала черная, как смола, и заперлась в доме. Рассказывают, что когда маленькие девочки слышали ее вопли, доносящиеся из светло-красного здания, то покрывались черными пятнами.
Соседи терпели ор, а после, не выдержав, застучались в двери, надеясь утихомирить. Но бабка не открывала. Со временем ее вопли перешли в завывания, точно раненый зверь попал в капкан.
Зимой на серой «Волге» с разбитой передней фарой к ней приехало двое: обрюзгший мужчина и молоденькая женщина. Они припарковали машину у раскидистого ореха. Постояли, покурили. И зашли в дом, чтобы пропасть навсегда.
Через неделю кто-то вызвал милицию. Приехал Сема Рогочий; сейчас больше похожий на похмельного бегемота, а тогда еще юный, стройный, белокурый. Он зашел в светло-красный дом и выскочил, говорят, уже полысевший.
Затем приезжали еще два десятка милиционеров. Другие ведомственные. Искали, рыли. Но хоронить – это в селе знают точно – никого не хоронили.
История, конечно, сумрачная, с душком, где на один факт, как на шампур, насажен пяток дурных баек. Но заходить в светло-красный дом – никто не заходит. Вот он и стоит нетронутый, девственный в своей монументальной угрюмости.
Впрочем, весь Абрикосовый переулок – особенно ранней, чавкающей влажным снегом зимой – чудовищен. Похожий на набитую грязью и калом кишку с непереваренными зернами, какие обычно бывают у куриц, он утыкается в заброшенную ферму. За ее бетонным забором, изрисованным угольными надписями и рисунками преимущественно генитальной тематики, еще пасутся несколько дистрофичных коров. Пасутся они всегда молча, будто нет сил, чтобы мычать. Фоном их молчаливому, покорному умиранию – обглоданные украинской независимостью скелеты развалившихся зданий. В дальнем конце фермы, у зеленого строительного вагончика, пошатываясь, бродит сторож – дядя Митя, который «когда трезв, то Муму и Герасим, а так он война и мир».
Он был другим, до развала Союза. Крепким, подтянутым, с подкрученными гусарскими усиками. Мы с дедом Филаретом приезжали к нему на ферму за колхозным зерном на стареньком «москвиче», в салоне которого вечно пахло солярой. Меня одевали в замызганные комбинезоны, которых я очень стеснялся. А от того, что никак не мог освоиться среди деревенских мужиков, я комплексовал еще больше. Суетился, пытался угодить деду, а он злился, потому что, мельтеша, я только вредил.
Зерно падало из металлической трубы на бетонный пол, шебарша, как пчелиный рой. Люди ведрами насыпали его в мешки. Тащили на прямоугольные весы с грузиком на каретке и ругались за каждые десять грамм. У весов стоял дядя Митя. Он, видимо, уважал деда, потому что позволял ему больше других. И вообще вел себя, несмотря на разницу в возрасте, по-дружески.
А после на ферму ездить мы прекратили. Зерно покупали сначала в Бахчисарае, затем на бывшем винзаводе в открывшемся магазине «Корма». Ферму же тем временем растаскивали, грабили, ломая даже бетонные стены, чтобы вытащить из них арматуру.
Но дядю Митю я продолжал встречать. В «Огоньке», в полях, в канаве. Всегда сонный, он сначала лысел, а после худел, напоминая пойманную рыбу, которую, забыв снять с крючка, так и оставили подыхать.
Дяде Мите, наверное, ощутимо тягостно жить. И в этом мы схожи. Но мне семнадцать, и, может, все сложится, а у него уже все сложилось, не переиграть, не перестроить – точка, финал.
Я разглядываю ферму и мысленно шлю дяде Мите приветы. Так долго, что можно возвращаться домой, мандражируя перед крышесносным свиданием.
6
Почти каждое мое появление рядом с бабушкой заканчивается ее мольбами, чтобы я наконец-то поел. Неважно, кушал я перед этим или нет.
Потому что родился я чуть больше двух килограммов. Сначала мама терзалась, выживу ли я после родов, а затем изматывалась, так как я не хотел есть. Отворачивался, не сосал грудь, разрывавшуюся от молока. А мама с бабушкой бегали, суетились, переживали – намаялись, в общем.
Когда я подрос, ситуация не изменилась: губы смыкались, если поблизости была еда. Бабушке с мамой удавалось накормить меня лишь одним способом: завести будильник, поставить рядом, и когда он срабатывал, а я довольно открывал рот, превращаясь в нормального младенца, в меня закидывали еду. Я, психуя, отмахивался. Будильник ломался.
Но потом – случайно – вмешался отец.
После моего рождения он заходил к нам совсем редко. Только, чтобы хорошенько поесть. Пьяным на него всегда нападал жор. Сидя за столом, накрытым не меняющейся тридцать лет клеенкой, он, чавкая, выслушивал жалобы мамы на то, что Аркашенька совсем не ест. Видимо, она так достала его стенаниями, что, когда вышла, он взял кусок черного хлеба, макнул его в говяжий бульон – отец всегда любил рассказывать с подробностями – и, предварительно разжевав, пальцем сунул мне порцию в рот. И я начал есть.
Мама пришла, испугалась, закричала, когда увидела, чем меня кормят. Бросилась на отца. Возможно, даже несколько раз его шлепнула. Но потом замерла, сообразив, что я наконец-таки ем. И стала кормить меня так же.
Я рос. Кабанел. Округлялся. И в первом классе выглядел среди детей-сверстников Гулливером. Меня дразнили, травили даже. Взрослый может пощадить – ребенок нет: добьет, растопчет.
В Севастополе, куда мы переехали, – мама нашла работу бухгалтером, считая, что в городе мне будет лучше, – когда я учился в пятом классе, в школе для одаренных детей легче не стало. Унижали, правда, меньше, но саморефлексия усилилась и отравляла сознание чудовищным самоедством. Иногда на переменах я впадал в почти летаргическое состояние, мечтая уйти из круга, сжимающегося вокруг меня и душащего безысходностью. Десятилетний пацан, мечтающий умереть, – абсолютный zeitgeist.
Помню, тогда мы носили форму: полосатые серо-черные бриджи и белые рубашки. В середине девяностых это было даже на пользу. Потому что деньги обесценились. Горками они валялись на столах и в шкафах. За десятки тысяч карбованцев продавали буханку хлеба, который регулярно заражался спорами картофельной палочки, и длиннющие, как в советское время, очереди стояли у магазинов местного бизнесмена Сергея Кондратевского, где хлеб стоил всего три тысячи. Вообще с едой были проблемы. Помню, дальняя родственница из Иркутска отправила нам в качестве матпомощи крупу, но та пока преодолела коллизии почты, спрессовалась и превратилась в нечто похожее на стройматериалы. В одежде же разделение на богатых и бедных чувствовалось особенно сильно. А тут – форма, не отличить. Тем более покупали мы ее не за свой счет.
Спонсировал наш класс Дуардович. То ли Александр, то ли Алексей Давыдович. Пока не разорился, когда мы были в восьмом классе. Он жил в Москве. Там у него был свой бизнес. Какой – неизвестно. Впрочем, какой в девяностых мог быть бизнес?
Но родился Дуардович в Севастополе. Наверное, поэтому он организовал здесь лицейный класс, куда я и попал. Помимо углубленного изучения стандартных предметов, мы осваивали логику, психологию, этику, религоведение, шахматы, танцы. Из нас растили ценные кадры, сверхчеловеков, которые после окончания школы пойдут на работу к Дуардовичу. Никто не возражал против таких перспектив. Определенность в то смутное, взбалмошное время, наоборот, радовала.
До сих пор не знаю, как мне удалось попасть в специализированный класс. Но думаю, что дело не только в моих способностях.
Учились мы не в здании школы, а в отдельном помещении, под которое оборудовали бывшие складские помещения. Сделали капитальный ремонт. Получилось три комнаты: коридор, игровая, классная. Плюс санузел. Шкафчик в коридоре у каждого был свой. В них мы и хранили форму.
В начале третьей четверти, вернувшись с каникул, я достал бриджи из шкафчика, чтобы переодеться. Вместе с остальными мальчиками из класса. Рядом на ДСПешной скамье под ольху натягивал бриджи щуплый Гриша Кедрук. Его мама, Оксана Платоновна, гаркая по-капральски, привычно командовала процессом переодевания.
Она была дочкой Платона Кедрука, одного из самых богатых людей Севастополя, превратившего крупнейшее рыболовецкое предприятие Европы в фирму-банкрот. Дебет с кредитом не сошелся. Разница пошла на приобретение автомобилей, домов для Кедруков.
Позже Платон Семенович будет рулить севастопольским отделением партии «За единую Украину». И нам, одноклассникам его внука, раздадут сине-белые наклейки «За ЕдУ» с изображением ножа и вилки. С чувством радости, едва ли ни благодарности мы будем расклеивать сине-белые квадраты по городу, ощущая себя частью некой большой и веселой затеи. Добровольный подростковый труд: оказывается, его используют не только «Свидетели Иеговы».
Гриша натянул штаны быстро, а вот мои все никак не сходились. Я и так всегда управлялся с ними неловко, потому что, стесняясь своих толстых ляжек, прячась, использовал для переодевания хитромудрый способ, а тут шло совсем туго, хоть вазелином смазывай. Пришлось идти в туалет, любимое место для переодевания; особенно верхней части: ляшки пусть еще видят, а вот четыре полосы жира на брюхе, переходящие в женскую грудь, – увольте. Я разложил вещи на батарее, унитазе. Выдохнул, успокоился. И попытался натянуть бриджи.
Паника как всегда зашевелилась сначала в мошонке, а затем поползла вверх, вдоль позвоночника. Господи, как я мог так растолстеть?! За две-то недели?! Как?! За что?! Неужели?!
Я плакал, а в дверь стучались:
– Все нормально, сынок?
– Да будьте вы прокляты с вашей жратвой!
– Открой, пожалуйста…
Я распахнул дверь и заорал, не видя лица:
– Хватит меня кормить! Хватит! Я жирный!
Истерично, бессвязно, так, что слышали все. И мама, обескураженная, стояла в дверном проеме. Ей было обидно. Очень обидно. Она плакала. Сухими слезами, этими застывшими гранулами страдания, которые куда болезненнее тех, что текут, размазываются по лицу.
– Дай я помогу. – Она зашла в туалет, дрожащими руками попыталась натянуть бриджи. Тщетно.
– Хватит кормить! Я жирный! – стонал я.
А в коридоре Оксана Платоновна сокрушалась, как похудел ее Гришенька. Бриджи болтались на нем, словно мешок из-под картошки. Он ел слишком мало, я – слишком много. Но бриджи мы перепутали.
Вот только пульсирующая мысль «я жирный, я жирный» никуда не ушла, когда мы разобрались, кому что надевать. Она въелась, осталась со мной. И хотелось умереть. Но у десятилетних пацанов не остановится сердце. И вилку в горло они не воткнут. Поэтому им приходится жить, терпеть.
Я терпел до седьмого класса. До первых внеклассных танцев. Румба, самба, вальс, ча-ча-ча – самые ненавистные слова, преподавательница Виолетта Орлова – самый ненавистный человек того времени. На уроках танцев я обычно сидел в углу. Игнорировал. Но на общие танцы пришлось идти. Было бы легче, если бы я появился один. Но обязали прийти с родителями. И мама, расчесав меня на прямой – «сын булочника» – пробор, облачив в толстящую белую рубашку, нацепив дурацкую бабочку, была рядом.
Мы сидели с ней на диванчике, когда Маша Леонова, единственная девушка, которая со мной общалась и которой мог выдавливать в ответ слова я, проходя мимо, улыбнувшись, поглядела на меня и сказала:
– Какой красивый!
– Спасибо, Машенька, – ответила за меня мама.
И оттого пунцовые пятна обжигающими медузами покрыли мое лицо. Маша прошла и взяла под руку Костлявчика. Я вжался в черный диван с синтетической обивкой. Стараясь исчезнуть. Стараясь не быть.
Да, в тот вечер я истово захотел похудеть. И если Бог, которого я умолял об этом последний год, – Бог, что был для меня бумажными иконками, стоящими на грабовом шкафу в восточном углу комнаты – отказывался помогать, то я решил обратиться к его конкуренту. Бизнес есть бизнес. Никаких контрактов с душою взамен. Только обещание дьяволу похудеть. Стать таким же вытянутым, бледным, как Костлявчик. Так я впустил в себя бесов похудения.




