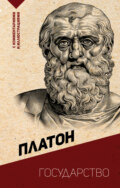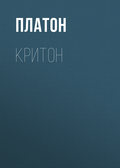Платон
Теория государства
Книга вторая
Сказав это, я думал, что уже избавился от разговора, однако же открылось, что то было только вступление, ибо Главкон, по обычаю всегда и для всего мужественный, не одобрил даже и теперь отказа Тразимаха от рассуждения и сказал:
– Сократ! Неужели ты хочешь, чтобы мы казались убежденными или действительно поверили, что в любом случае лучше быть справедливым?
– Да, в самом деле хотелось бы, – отвечал я, – если бы это было по моим силам <…>
– Тразимаха-то ты очаровал, будто змея, по-видимому, слишком скоро <…> Я же желаю услышать, что же такое справедливость и несправедливость и какое они имеют значение, когда сами по себе содержатся в душе человека <…> Посему я буду настойчиво превозносить жизнь несправедливую и, говоря о ней, укажу тебе тот способ, которым ты, сообразно с моим желанием, должен будешь в свою очередь порицать несправедливость и хвалить справедливость. Но смотри, согласен ли ты на то, чего я хочу?
Тразимах, показывая себя в беседе с Сократом человеком вздорным и язвительным, уподобляется змею. Но у греков было поверье, что змея можно заговорить таинственной силой некоторых слов. Таким «заклинателем змей» и представляется Сократ.
– Всего более, – отвечал я. – Чем особенно и наслаждаться разумному существу, как не возможностью часто говорить и слышать об этом?
– Прекрасно сказано, – заметил он. – Слушай же, я начинаю, как обещался, исследованием того, какова справедливость и откуда она произошла. Хотя обыкновенно говорят так, что делание несправедливости есть добро, а испытывание ее – зло; однако же у испытывающего несправедливость избыток зла больше, чем у делающего ее – избыток добра. Посему, когда люди стали делать несправедливость друг другу и испытывать ее друг от друга – отведывать одно и другое, тогда они, раз уж нет сил избежать одной и придерживаться другой, нашли полезным условиться между собою, чтобы и не делать несправедливости, и не испытывать ее. При этих-то условиях начали они постановлять законы и договоры и предписание закона называть законным и справедливым. Вот каково происхождение и существо справедливости: она находится в средине между самым лучшим, когда делающий несправедливость не подвергается наказанию, и самым худшим, когда испытывающий несправедливость не в силах отмстить за себя. Справедливость лежит посреди между этими крайностями, и этим приходится довольствоваться, но не потому, что она благо, а потому, что люди ценят ее из-за своей собственной неспособности творить несправедливость. Напротив, кто может делать ее, тот истинно муж, тот не будет ни с кем входить в договоры касательно делания и испытывания несправедливости: разве он с ума сойдет! Эта-то и такова-то природа справедливости, Сократ. Вот источник, из которого она, как говорят, проистекла <…>
Когда Главкон кончил, я думал было сказать нечто против его слов, но брат Главкона, Адимант, обратился ко мне:
– Уж не думаешь ли ты, Сократ, что сказанное решает спорный вопрос?
– А что такое? – спросил я.
– Упущено самое главное из того, что сказать особенно надлежало.
– Но ведь, по пословице, брат к брату спешит на помощь, – сказал я. – Так и ты помоги ему, если он что пропустил, хотя, чтобы меня сбить с ног и поставить в невозможность помочь справедливости, довольно и того, что уже высказано.
– Ты говоришь пустое, – сказал Адимант, – но вот выслушай-ка следующее: те противоположные мнения, о которых говорил Главкон, то есть мнения людей, хвалящих справедливость и порицающих неправду, мы должны еще более раскрыть, чтобы мысль, которую, как мне кажется, он имел в виду, через то сделать яснее. Отцы и все, имеющие о ком-нибудь попечение, конечно, говорят и внушают детям, что надобно быть справедливым, но выхваляют в этом случае не саму по себе справедливость, а проистекающую из нее добрую молву, чтобы тому, кто считается справедливым, достались и правительственные должности, и супружество, и все, что сейчас упоминал Главкон <…> Те, кто добился благосклонности богов, получают от них блага, которые, как они считают, боги даруют людям благочестивым. Об этом говорит такой возвышенный поэт, как Гесиод, да и Гомер тоже <…> Сверх того рассмотри, Сократ, и другой род рассуждений о справедливости и несправедливости, повторяемых и в сочинениях прозаических не менее, чем в поэтических. Все одними устами твердят, что рассудительность и справедливость – дело похвальное, хотя, конечно, тяжелое и трудное; а безнравственность и несправедливость иметь приятно и легко, только мнение и закон почитают их постыдными. Неправды полезнее правд, говорят большей частью, и злонравных богачей, или людей сильных в ином отношении, охотно соглашаются называть счастливыми и уважать их публично и частно. Напротив, сколько-нибудь слабых и бедных уничижают и презирают, хотя признают их лучшими, чем другие. Рассуждения всех последних о богах и добродетели весьма удивительны: будто бы боги жизнь многих добрых людей испестрили неудачами и бедствиями, а жизнь противоположных им – противоположной участью <…>
Гесиод – первый древнегреческий поэт, исполнитель эпических песен.
Гомер – легендарный древнегреческий поэт-сказитель, создатель эпических поэм «Илиада» и «Одиссея». Существует предание о состязании Гомера и Гесиода. Оно повествует о том, что, когда царь Халкиды Амфидамант погиб в Лелантской войне, Гесиод участвовал в играх, устроенных в его память, состязался при этом с Гомером и был назван победителем. Царь Панед, председатель состязания, отдал предпочтение Гесиоду лишь потому, что тот повествовал о «земледелии и мире», а не «войнах и побоищах».
Тут поэтам противопоставляются люди, говорящие простой, обыденной (прозаической) речью.
В своем рассуждении ты докажи нам не то только, что справедливость лучше несправедливости, но и то, чем делает человека каждая из них сама по себе, – одна, как зло, другая, как добро. А мнения, как и Главкон приказывал, оставь: потому что, если с той и другой стороны не отвлечешь истинных, а приложишь ложные, то мы скажем, что ты хвалишь не справедливость, а ее наружность, что ты убеждаешь несправедливого быть скрытным и соглашаешься с Тразимахом, что справедливость есть благо чужое, польза сильнейшего, и что несправедливость полезна и выгодна сильнейшему, а низшему неполезна. Если уж ты положил, что справедливость принадлежит к числу величайших благ, которые достойны приобретения ради своих следствий, то тем важнее они сами по себе, подобно тому как зрение, слух, разумение, и другие многие блага суть блага родовые, блага по своей природе, а не по мнению. Так это-то самое хвали в справедливости, что, то есть, она сама по себе полезна человеку, который имеет ее, равно как несправедливость вредна; а хвалить награды и мнения предоставь другим. Когда другие будут таким образом хвалить справедливость и порицать несправедливость, то есть начнут превозносить или бранить касающияся их мнения и награды, то я в состоянии удержать их: а тебя – не могу, если не прикажешь; потому что ты в продолжение всей своей жизни ничего более не рассматривал, кроме этого. Итак, в своей речи докажи нам не то только, что справедливость лучше несправедливости, но и то, чем делает человека та и другая сама по себе, – скрываются ли они от богов и людей или не скрываются, первая как добро, а последняя как зло.
Слушая Главкона и Адиманта, я и всегда удивлялся их способностям, а тогда особенно обрадовался и сказал:
– Вы и впрямь сыновья своего славного родителя, и неплохо начало элегии, которую написал любитель Главкона, когда вы прославились на Мегарской войне. Он говорит: «Дети Аристона, божественный род знаменитого мужа». По моему мнению, друзья, это хорошо. Над вами, конечно, совершается что-то божественное, если вы, не уверившись, что несправедливость лучше справедливости, можете так говорить об этом. А мне кажется, что вы в самом деле не уверились: это я заключаю вообще из ваших нравственных качеств, потому что одним словам я бы не поверил. Но чем больше я верю, тем больше недоумеваю, что мне делать. С одной стороны, не знаю, как помочь, ибо чувствую свое бессилие, – признак тот, что, говоря против Тразимаха, я надеялся было доказать преимущество справедливости пред несправедливостью, однако же вы не приняли меня. С другой стороны, я не могу не защищать свои взгляды. Ведь я боюсь, что будет неблагочестиво, присутствуя при поношении справедливости, уклоняться от помощи ей, пока еще дышишь и можешь говорить. Самое лучшее – вступиться за нее в меру сил.
Автором этих элегий, по догадкам исследователей, был Критиас (Критий) из Афин – греческий политик, прозаик, поэт и двоюродный брат матери Платона.
Здесь имеется в виду конфликт, обострившийся примерно в 650–640 до н. э. между Афинами и Мегарой (городом, что в 42 км к северо-западу от Афин) за обладание островом Саламин.
Тут Главкон и остальные стали просить меня помочь любым способом и не оставлять рассуждения, но, напротив, тщательно исследовать, что такое справедливость и несправедливость и как обстоит дело с истинной их полезностью. И я сказал свое мнение:
– Предпринимаемое нами исследование есть дело немаловажное, но оно под силу, как мне кажется, лишь человеку с острым взглядом. А мы, кажется, не довольно сильны для произведения такого исследования, как не довольно сильны те, которым, при слабом зрении, приказано читать издали мелко написанную рукопись. И вдруг кто-то из них сообразит, что те же самые буквы бывают и крупнее где-нибудь в надписи большего размера. Я думаю, прямо находкой была бы возможность прочесть сперва крупное, а затем разобрать и мелкое, если это было то же самое.
– Без всякого сомнения, – сказал Адимант, – но что же ты видишь тут, Сократ, относящееся к исследованию справедливости?
– А вот скажу тебе, – отвечал я. – Мы приписываем справедливость одному человеку, но ее, вероятно, можно приписывать и целому обществу.
– Уж конечно, – сказал он.
– А общество не больше ли одного человека?
– Больше, – отвечал он.
– В большем же может быть больше и справедливости, следовательно, легче и изучать ее. Так, если хотите, сперва исследуем, что и какова она в обществе, а потом рассмотрим ее и в отдельном человеке, ибо идея меньшего есть подобие большого.
– Ты, мне кажется, хорошо говоришь.
– Но если в своем рассуждении, – продолжал я, – мы захотим созерцать рождающееся государство, то не увидим ли также рождающейся справедливости и несправедливости?
У Платона тут и далее используется слово «город», но у древних греков понятие «город» было совсем не таким, как у нас. Под городом греки подразумевали целую республику (государство) со всеми принадлежащими ей демами (территориальными округами), провинциальными городами и селениями.
– По-моему, это хорошее предложение.
– Если мы мысленно представим себе возникающее государство, мы увидим там зачатки справедливости и несправедливости, не так ли?
– Даже очень легко.
– В таком случае легче будет заметить то, что мы ищем.
– Мы готовы, – сказал Адимант.
– Государство, – так начал я, – по моему мнению, рождается тогда, когда каждый из нас сам для себя бывает недостаточен и имеет нужду во многих. Или ты предполагаешь другое начало основания государства?
– Никакого более, – отвечал он.
– Стало быть, когда таким-то образом один из нас принимает других – либо для той, либо для иной потребности, когда, имея нужду во многом, люди собираются воедино, чтобы обитать сообща и оказывать друг другу помощь: такое совместное поселение и получает у нас название государства, не так ли?
– Без сомнения.
– Таким образом, они кое-что уделяют друг другу и кое-что получают, и каждый считает, что так ему будет лучше.
– Конечно.
– Давай же, – сказал я, – займемся в уме построением государства с самого начала, а создает его, вероятно, наша потребность.
– Почему бы и нет?
– Первая же и самая великая из потребностей есть приготовление пищи для существования и жизни.
– Уж непременно.
– Вторая – приготовление жилища, третья – одежды и тому подобных вещей.
– Это правда.
– Смотри же, – сказал я, – каким образом государство может обеспечить себя всем этим. Не так ли, что один в нем – земледелец, другой – домостроитель, иной – ткач? И не прибавить ли к этому еще кожевника и иных прислужников телу?
Речь идет о тех, кто обслуживает телесные нужды человека.
– Конечно.
– Стало быть, государству необходимо состоять из четырех или пяти человек.
– Наверное.
– Что ж теперь? Каждое из этих неделимых должно ли посвящать свою работу всем вообще? Например, земледелец один обязан ли приготовлять пищу четырем и употреблять четыре части времени и трудов для приготовления пищи и общения с другими? Или, не заботясь об этом, он может запасти четвертую часть пищи только для себя и употребить на то четвертую часть времени, а из прочих трех его частей, одну провести в приготовлении дома, другую – платья, третью – обуви, и заниматься работою не с тем, чтобы поделиться с другими, но делать свое дело самому для себя?
– Может быть, Сократ, – сказал Адимант, – первое будет легче, чем это.
«Первое» относится к тому, что, как полагал Сократ, граждане должны удовлетворять нуждам друг друга. А «это» указывает на то, что каждый гражданин должен в разные промежутки времени работать сам на себя.
– Нет ничего странного, клянусь Зевсом, – промолвил я. – Слыша тебя, я и сам понимаю, что каждый из нас рождается сперва не слишком похожим на всякого другого, но отличным по своей природе, и назначается для совершения известной работы. Или тебе не кажется это?
– Кажется.
– Что ж? Кто лучше работает – тот, кто владеет многими искусствами или же только одним?
– Лучше, когда один занимается одним, – отвечал он.
– Впрочем, и то, думаю, очевидно, что если время какой-нибудь работы протекло, то оно исчезло.
– Конечно, очевидно.
– Потому работа, кажется, не хочет ждать, пока будет досуг работнику. Напротив необходимо, чтобы работник следовал за работой не между делом.
– Необходимо.
– Оттого-то многие частные дела совершаются лучше и легче, когда один, делая одно, делает сообразно с природой, в благоприятное время, оставив все другие занятия.
– Без всякого сомнения.
– Но для приготовления того, о чем мы говорили, Адимант, должно быть граждан более четырех, потому что земледелец, вероятно, не сам будет делать плуг, если потребуется хороший, и заступ, и прочие орудия земледелия. Не сам опять – и домостроитель, которому также многое нужно. Равным образом и ткач, и кожевник. Или нет?
– Правда.
– А столяры, медники и многие подобные им мастеровые, мастера, если их включить в наше маленькое государство, сделают его уже многолюдным.
– Да, конечно.
– Однако ж оно все-таки было бы что-то не слишком большое, если бы мы не присоединили к нему волопасов, овчаров и других пастухов, чтобы земледельцы имели волов для пахоты, домостроители – подъяремных животных для перевозки тяжестей с земледельцами, а ткачи и кожевники – кожу и шерсть.
Подъяремный – т. е. подневольный.
– По крайней мере, государство, имеющее все это, было бы не мало, – сказал он.
– Но ведь разместить такое государство в таком месте, куда не требовалось бы никакого ввоза, почти невозможно, – сказал я.
– Да, невозможно.
– Стало быть, понадобятся еще и другие, для перевозки к нему потребностей из иных государств.
– Понадобятся.
– Ведь промышленник, прибывший куда-нибудь порожним и не привезший с собою ничего, в чем там имеют нужду и откуда получается нечто для них потребное, этот промышленник порожним и возвратится. Не так ли?
– Мне кажется.
– Значит, домашнее нужно приготовлять не только в достаточном количестве для себя, но и делать запас такой и в таком роде, какой и в каком он требуется для государств, имеющих в том нужду.
– Да, надобно.
– Следовательно, нашему государству нужно более земледельцев и других мастеровых?
– Конечно, более.
– Стало быть – более и промышленников для вывоза и ввоза всякой всячины, а это – купцы. Не правда ли?
– Да.
– Поэтому мы потребуем и купцов.
– Конечно.
– И если торговля будет совершаться морем, то понадобится множество и других людей, умеющих действовать на море.
– Да, очень много.
– Что ж теперь? В самом государстве, каким образом граждане будут передавать друг другу то, что каждый из них производит? Ведь для этого-то мы и установили общение, для этого и основали государство.
– Явно, – сказал он, – что посредством продажи и купли.
– Так отсюда у нас будет и рынок, и монета – знак для обмена.
– Уж конечно.
– Но если земледелец или кто-нибудь из мастеровых, везя на рынок свою работу, прибудет не в одно время с теми, которым нужно бы обменяться с ним, то неужели он оставит свое мастерство и будет сидеть на рынке?
– Отнюдь нет, – сказал он. – Есть люди, которые, видя это, сами вызываются на подобную услугу: в благоустроенных государствах они – самые слабые телом и неспособные ни к какой иной работе. Им-то и надобно оставаться на рынке и либо выменивать за деньги, что другие имеют нужду сбыть, либо выменивать деньги за тот товар, который другие хотят купить.
– Так эта потребность, – сказал я, – дает в государстве место барышникам. Разве не барышниками назовем мы торгашей, постоянно сидящих на площади и готовых купить и продать, либо бродящих по городам?
– Конечно, барышниками.
– Но есть еще, как я думаю, прислужники и иного рода, которые, по уму, не слишком были бы достойны общения, но они владеют телесной силой, достаточной для тяжелых работ. Так, продавая употребление своей силы и цену употребления называя наймом, они, думаю, получили имя наемников. Не правда ли?
– Конечно.
– Итак, для полноты государства, вероятно, нужны и наемники.
– Мне кажется.
– Не выросло ли уже, Адимант, государство у нас до целости?
– Может быть.
– Где же в нем будет справедливость и несправедливость? Или в чем из того, что мы рассмотрели, заключаются они?
– Не вижу, Сократ, – сказал он. – Разве не в потребности ли этих самых вещей для одного в отношении к другому?
– Может быть, ты и хорошо говоришь, – заметил я. – Надобно исследовать и не отступаться. И, во-первых, исследуем, как станут жить собранные таким образом граждане. Не так ли, что, приготовляя пищу и вино, одежду и обувь и строя дома, летом они будут работать по большей части нагие и босые, а зимой достаточно оденутся и обуются? Не так ли, что питаться будут они крупой, полученной из ржи, и мукой из пшеницы, первую варя, а последнюю запекая? Не так ли, что благородные пироги и хлебы располагая на тростнике или на чистых листах и возлагая на дерне, покрытом миртами и тисом, они будут насыщаться вместе с детьми, пить вино, украшаться венками, воспевать богов, приятно обходиться друг с другом и, из опасения бедности и войны, рождать детей не более, как сколько позволяет состояние?
Тут Главкон прервал меня и сказал:
– Ты заставляешь своих людей обедать, по-видимому, без похлебки.
– Да, твоя правда. Я забыл, что у них будет и похлебка, – отвечал я. – Разумеется, будет также соль, масло и сыр, будут они варить лук и овощи, какие варятся в поле. Мы дадим им и каких-нибудь сладостей – например, смокв, гороху, бобов. Миртовые плоды и буковые орехи будут они жарить на огне и понемногу запивать вином. Живя таким образом в мире и здоровье и умирая, как надобно полагать, в старости, они такую же жизнь передадут и потомкам.
– Если бы, Сократ, устраиваемое тобой государство состояло из свиней, какого, как не этого, задал бы ты им корму?
– А какого же надобно, Главкон? – спросил я.
– Какого принято, – отвечал он. – Чтобы жить не в горести, возлежать-то, думаю, следует на скамьях, обедать со столов и употреблять мяса и сладости, какие ныне употребляются.
– А, понимаю! – сказал я. – Так, видно, мы рассматриваем не то, как должно жить просто государство, но как государство роскошествующее? Может быть, это и не худо. Потому что, рассматривая его, мы вдруг заметили бы, где в государствах рождается справедливость и несправедливость. Но то, которое было предметом нашего исследования, мне кажется, есть государство истинное, как бы здравое: впрочем, если вы хотите, начнем рассуждать и о лихорадочном, ничто не мешает. Иных эти вещи и этот образ жизни, конечно, не удовлетворят: им понадобятся и скамьи, и столы, и другая утварь, и мяса, и масти, и благовония, и наложницы, и пирожные, и все это в разных видах. Поэтому не вещи, перечисленные нами прежде, то есть не дома, не одежду и обувь, следует уже почитать необходимыми, но надобно пустить в ход живопись и расцвечивание материй, надобно достать золото, слоновую кость и все тому подобное. Не правда ли?
Государству здоровому, ведущему жизнь правильную, в котором граждане живут до глубокой старости и не имеют нужды во врачебной науке, Сократ противопоставляет государство роскошествующее и вместе с тем хворое, лихорадочное, живущее в хлопотах, тревожно и судорожно. Болезненное его состояние требует большей помощи и, следовательно, большего населения.
– Да, – сказал он.
– Так не нужно ли нам увеличить свое государство? То, здоровое, государство уже недостаточно, его надо заполнить кучей такого народа, присутствие которого в государстве не вызвано никакой необходимостью – например, всякими ловчими и подражателями, из которых иные подделывают наружный вид и цвет, иные музыку. А также поэтами и их исполнителями, то есть актерами, плясунами, спекулянтами, мастерами всякой утвари и другими, приготовляющими женские украшения. Понадобится нам гораздо более и прислужников. Не нужны ли, думаю, будут педагоги, кормилицы, воспитатели, служанки, брадобреи, стряпухи и повара? Не потребуем ли мы еще и свинопасов? В первом государстве не было ничего такого, потому что не было надобности: теперь и это понадобится. Нужны будут также и другие весьма многие животные – для тех, кто их ест. Не правда ли?
Слово «ловчий» употреблено здесь в метафорическом смысле: Платон называет ловчими тех людей, которые непрестанно гоняются за удовольствиями.
Спекулянты – здесь: подрядчики, предприниматели, содержатели общественных заведений.
– Как же иначе?
– Но, живя таким образом, не будем ли мы иметь гораздо большую нужду, чем прежде, и во врачах?
– Несравненно большую.
– Вероятно, и страна, бывшая тогда достаточною для пропитания, теперь из достаточной сделается уже малою. Или как мы скажем?
– Именно так.
– Значит, не понадобится ли нам отрезать от страны соседней, когда хотим, чтобы у нас достаточно было земли кормовой и пахотной? А соседи, если они пустились приобретать неисчислимое богатство, не переступят ли также за пределы необходимого и не отрежут ли от нашей?
– Неизбежно, Сократ, – сказал он.
– Что ж после этого, Главкон? будем воевать, или как?
– Придется воевать, – отвечал он.
– Теперь мы, пожалуй, хоть и не станем еще говорить, – продолжил я, – зло ли производит война или добро, заметим однако, что мы открыли происхождение войны. Открыли, откуда преимущественно приключается государствам зло общественное и частное, как скоро оно приключается.
– Конечно, открыли.
– Вдобавок, друг мой, придется увеличить наше государство не на какую-то безделицу, а на целую армию, которая бы, отправившись в поход, сражалась с наступающим неприятелем за свое достояние, и за все то, о чем сейчас говорено было.
– Как так? Разве сами мы не в состоянии?
– Нет, – отвечал я, – если только ты и все мы правильно решили этот вопрос, когда строили наше воображаемое государство. Помнишь, мы согласились что одному нельзя успешно заниматься многими искусствами.
– Да, правда, – сказал он.
– Что ж? А разве воинский труд не кажется тебе искусством?
– И очень, – отвечал он.
– А разве надо больше беспокоиться о кожевническом, а не о военном искусстве?
– Отнюдь нет.
– Но ведь мы и кожевнику, и земледельцу, и ткачу, и домостроителю не мешаем исполнять свое дело, чтобы у нас шла хорошо работа и кожевника, и каждого, кому поручено также что-нибудь одно, так как к этому он годится по своим природным задаткам, этим он и будет заниматься всю жизнь, не отвлекаясь ни на что другое, и достигнет успеха, если будет трудиться всю жизнь. Не тем ли, стало быть, нужнее хорошее исполнение дела воинского? Разве оно так легко, что и какой-нибудь земледелец, и кожевник, и всякий, занимающийся известным искусством, может быть вместе с тем и воином? Тогда как и порядочно играть в шашки или в кости не может ни один, кто занимался этим не с самого детства, а только между делом? Разве стоит только взять щит или иное оружие, чтобы в тот же день сделаться, каким следует, ратником среди битвы? Одно держание в руках всяких иных орудий никого не сделает ни мастером, ни атлетом, и не принесет пользы тому, кто не приобрел познания о каждом из них и не приложил к этому делу надлежащего внимания?
– Да, оружие – важное дело, – сказал он.
– Итак, чем важнее дело стражей, – продолжал я, – тем больше оно несовместимо с другими занятиями, тем больше оно требует искусства и величайшего старания.
– Я думаю.
– Для этой именно должности не требуется ли иметь соответствующие природные задатки?
– Как же иначе?
– И ведь, если бы только мы могли, нашим делом было бы отобрать тех, кто по своим природным свойствам годен для охраны государства.
– Конечно.
– О, Зевс! Нелегкий же предмет мы себе облюбовали! Однако ж, не поддадимся страху, по крайней мере, сколько позволят силы.
– Да, не поддадимся, – сказал он.
– Думаешь ли, – спросил я, – что в деле охраны есть разница между природными свойствами породистого щенка и благородного юноши?
– Как это?
– Тому и другому надобно иметь остроту чувств, проворно преследовать то, что заметят, и силу, если понадобится кого схватить и обезоружить.
– Да, нужно все это, – отвечал он.
– И притом надо еще быть мужественным, чтобы хорошо сражаться.
– Как же иначе?
– А быть мужественным захочет ли тот, в ком нет яростного духа, будь то лошадь, собака или какое иное животное? Не замечал ли ты, сколь непреодолим и непобедим бывает гнев, под влиянием которого душа всецело становится бесстрашной и неуступчивой?
– Замечал.
– Итак, теперь ясно, что должен иметь страж со стороны тела.
То есть какими должны быть телесные свойства стража (воина, охраняющего государство).
– Да.
– А со стороны души он, по крайней мере, должен иметь яростный дух.
– И это.
– А что, Главкон, такие по природе – не будут ли они жестоки друг к другу и к прочим гражданам?
– На это, клянусь Зевсом, нелегко ответить.
– Однако надобно же, чтобы в отношении к домашним они были кротки, а в отношении к неприятелям грозны. В противном случае, не дожидаясь, пока истребят своих чужие, они поспешат выполнить это сами.
– Твоя правда.
– Что же мы сделаем? – спросил я. – Где вместе с этим найдем кроткий и великодушный нрав? Ведь грозная и кроткая природа – взаимно противоположны.
– Наверное.
– Но так как из этих-то качеств, не имея того и другого, стражу нельзя быть хорошим, а совместить их, по-видимому, невозможно, то и хорошим стражем быть невозможно.
– Есть опасность, – сказал он.
Обнаружив тут недоумение и припоминая прежние слова, я продолжал:
– А ведь мы, друг мой, не без причины недоумеваем. Мы отклонились от того образа, который сами предложили.
– Что ты имеешь в виду?
– Мы не заметили, что в самом деле есть характеры, о каких и не подумаешь, а они совмещают в себе эти противоположности.
– Где же такие характеры?
– Их можно видеть и в других животных, и не менее в том, которому уподобляли мы стража. Ты, вероятно, знаешь ведь благородных собак: нрав их по природе таков, что с домашними и знакомыми они как нельзя более кротки, а с незнакомыми напротив.
– Конечно, знаю.
– Стало быть, это возможно, – сказал я, – и мы не противоречим природе, ища такого стража.
– Кажется, нет.
– А кажется ли тебе еще, что тот, кому надобно будет сделаться стражем, должен, кроме гневливости, присоединить к себе и природу философа?
– Почему? – спросил он. – Я не понимаю.
– Это ты увидишь также в собаках, – отвечал я, – черта, в животном достойная удивления.
– Какая?
– Та, что, видя незнакомого, собака злится, хотя не потерпела от него ничего худого, а к знакомому ласкается, хотя он никогда и никакого не сделал ей добра. Неужели этому ты еще не удивляешься?
– На это доныне я не довольно обращал внимание, – отвечал он, – а что она точно так делает, явно.
– Однако ж такое чувство ее природы кажется занимательным и истинно философским.
– Как это?
– Так, что дружеское и вражеское лица, – сказал я, – она различает только тем, что первое знает, а последнего не знает: стало быть, отчего бы не приписать ей любознательности, когда домашнее и чужое она определяет знанием и незнанием?
– Никак нельзя не приписать.
– Но ведь любознательность и философствование – одно и то же? – спросил я.
– Конечно, одно и то же, – отвечал он.
– Поэтому не можем ли мы смело положить, что и человеку, если он с домашними и знакомыми должен быть кроток, надобно иметь природу философскую и любознательную?
– Положим, – сказал он.
– Так хороший и добрый страж государства будет у нас человек и философствующий, и гневливый, и проворный, и сильный по природе?
– Без сомнения, – отвечал он.
– Пусть же он таким и будет. Но как нам этих людей кормить и воспитывать? И ведет ли нас настоящее исследование к познанию того, для чего предприняты все наши исследования, то есть каким образом в государстве рождается справедливость и несправедливость? Как бы нам в своем рассуждении не опустить чего нужного или не зайти слишком далеко.
– В самом деле, – сказал брат Главкона, – я ожидаю, что настоящее исследование действительно поведет к этому.
– Ах, любезный Адимант, – промолвил я, – не оставим дела, хотя оно и довольно длинно.
– Конечно, не оставим.
– Пусть уже мы будем воспитывать тех людей, как будто бы на досуге стали рассказывать басни.
– Да, надобно.
– Что ж это за воспитание? Или, может быть, и трудно найти лучше того, которое давно уже открыто? То есть одно, относящееся к телу, – гимнастическое, а другое, – к душе, – музыкальное.
Программа древнего греческого воспитания включала в себя две рубрики: гимнастику и музыку. Гимнастика способствовала образованию тела, а музыка – образованию души. Но музыку, формирующую душу, Платон обычно понимает в обширном смысле. Он подводит под нее не только все словесные науки, но и саму философию.
– Да, это.
– И не музыкой ли мы начнем воспитывать их прежде, чем гимнастикой?
– Почему не так?
– А к музыке относишь ли ты словесность или не относишь? – спросил я.
– Отношу.
– Словесности же два вида: один истинный, другой лживый?
– Да.
– И учить надобно хотя тому и другому, однако ж прежде лживому?