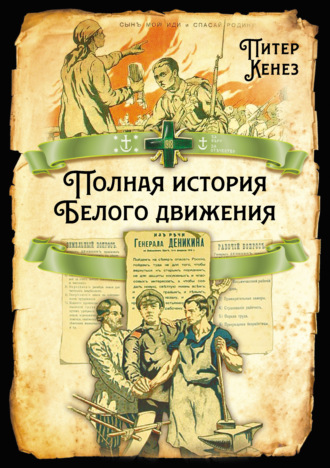
Питер Кенез
Полная история Белого движения
Добровольческая армия и станицы Мечетинская и Егорлыкская
Когда Добровольческая армия закончила свой Ледяной ход, она создала свои штабы в станицах Мечетинской и Егорлыкской. Здесь, южнее Ростова и Новочеркасска, армия была защищена от противника победами Донской армии и слабостью Красной армии на Кубани. Эти месяцы были достаточно пассивны с военной точки зрения, зато их можно было посвятить достижению некоторых политических целей. В декабре и январе все думали, что большевистский режим скоро развалится, и главной задачей Ледяного похода было лишь выживание Добровольческой армии. Но теперь уже генералам стало ясно, что необходимо организовывать восстание, а поэтому нужно налаживать связи с казаками, Антантой и Германией и политическими организациями. Решения, принятые в этот период, повлияли на ход Гражданской войны.
Теперь Донская армия была гораздо сильнее, чем Добровольческая, поэтому Деникин мог переместиться в Ростов или Новочеркасск только с согласия Краснова. Но Деникин тем не менее предпочел неудобство остаться в станице, что являлось помехой дальнейшему набору пополнения, чем сотрудничать с германофилом Красновым. Он лишь отослал больных и раненых в городские больницы. К тому же дислокация двух армий вдали друг от друга способствовала бы уменьшению ссор между ними.
После огромных испытаний Ледяного похода десятки, возможно, даже сотни покинули армию, так что она сократилась. Многие донские казаки, присоединившиеся к добровольцам в феврале, теперь предпочли воевать под началом Краснова. Среди них был и генерал А. П. Богаевский, командир одного из трех отрядов, ставший теперь министром иностранных дел Войска. Другие вступали в армию только на четыре месяца и теперь имели право уйти по домам. Также многие учащиеся, вставшие под знамена похода, теперь хотели вернуться в свои семьи.
Но вскоре новые пополнения более чем восполнили потери. Немецкая оккупация Украины и других частей России заставила прибыть многих, кто раньше оставался в стороне. Большинство из них пришли из городов Дона. Эти люди хотели избежать участия в Гражданской войне, но период Донской республики дал им понять, что остаться нейтральными просто невозможно. Самую большую группу привел полковник Дроздовский, участвовавший в освобождении Новочеркасска. За время пребывания на Дону его отряд из тысячи человек вырос до двух с половиной тысяч. Краснов, чьи отношения с Деникиным были довольно натянутыми, хотел уговорить Дроздовского организовать независимую армию, которая будет координировать действия с его частями. Но полковник отказался от предложения и 8 июня объединил свою маленькую армию с войсками Деникина. Объединение войск стало великим событием для белых, а прибытие двух половиной тысяч военных дало новую надежду, что многие русские офицеры в дальнейшем также присоединятся к Деникину. Ветераны Кубанской кампании смотрели с удивлением и завистью на своих товарищей: они были экипированы гораздо лучше и больше были похожи на солдат.
Из-за увеличения численности Деникин переформировал свою армию, разделив ее на три части. Генералы Марков, Боровский и полковник Дроздовский были назначены командующими пехотными дивизиями, генерал Эрдели – кавалерийской дивизией. К середине июня армия насчитывала от 9 до 10 тысяч солдат.
Вся власть была сконцентрирована только в руках Деникина. Хотя русское общество по-прежнему считало Алексеева руководителем армии, фактически он становился все более и более номинальным лидером. Его и без того плохое здоровье было сильно подорвано тяжелыми условиями Ледяного похода, он уже не мог выполнять ту работу, которую с легкостью выполнял еще пару месяцев назад. Между двумя лидерами не было какого бы то ни было соперничества за власть, поэтому они гармонично сотрудничали. Деникин уважал старого генерала и всегда относился к нему с почтением.
В середине июня Алексеев переехал в Новочеркасск частично из-за своего здоровья, частично потому, что надеялся оттуда наладить политические связи со всей страной. Его ухудшающееся здоровье и растущая нерешительность сильно ослабили его влияние в Мечетинской. Его уговорили выдвинуть монархические лозунги; он несколько раз менял свое решение по поводу необходимости второй Кубанской кампании; он даже допускал мысли о сотрудничестве с Германией. Так как Алексеев все время колебался, а Деникин нет, в результате принималась всегда линия Деникина.
Чтобы привлечь политическую и финансовую поддержку, Алексеев сформировал политический отдел в Новочеркасске. Этот отдел не сыграл большой роли. Его задачи так и не были четко определены, он неизбежно дублировал часть работы и имел много разногласий со штабом армии. Эти разногласия стали такими серьезными, что поставили под угрозу доверие между Алексеевым и Деникиным.
Ни штаб армии в Мечетинской, ни политический отдел Алексеева не принес много пользы. Мечетинская не привлекала политиков, как и Новочеркасск раньше, до Ледяного похода, как и Екатеринодар после освобождения в августе, – такую ситуацию Деникин считал удовлетворительной. Когда Родзянко, бывший председатель Думы, предложил Деникину созвать представителей четырех Дум, главнокомандующий категорически отказался. Он пытался держать политиков как можно дальше от армии.
Но попытка сохранить армию вне политики во время Гражданской войны не удалась. Главной политической проблемой Деникина было решить, придерживаться или нет монархической позиции. С самого начала армия привлекала большое количество правых экстремистов и реакционеров. Опыт Ледяного похода, так как его участникам приходилось большей частью действовать во враждебном окружении, оставил горькие воспоминания, которые и стали источниками экстремизма. В начале 1918 года примерно 80–90 процентов неказачьего сегмента армии являлись монархистами. Они создавали тайные общества, носили царские награды и атрибутику.
Деникин испытал давление монархистов – некоторых рядовых и даже командиров, например Дроздовского, который принадлежал к одному из тайных обществ. Такие разные люди, как лидер кадетской партии П. Н. Милюков, монархист В. В. Шульгин (сыгравший важную роль в отречении царя от престола) и генерал А. С. Лукомский, давали один и тот же совет. Алексеев склонялся прислушаться к совету монархистов, но Деникин был твердо уверен, что будущее устройство государства должно решаться на Учредительном собрании.
Твердость Деникина сослужила большую службу антибольшевистскому движению. Ассоциация Добровольческой армии с умершим царским режимом в дальнейшем привлекла многих союзников, например большую часть русских крестьян.
У Деникина имелось несколько важных аргументов против монархизма, но он также не поддерживал созыв Учредительного собрания. Он сам лично предпочитал конституционную монархию, но никогда не позволял своим взглядам влиять на что-либо, так как верил, что его маленькая армия не имеет права решать такие важные вопросы за всех русских людей.
Разногласия между командованием армии усугублялись. Без сомнения, кто-то покинул армию, так как был не согласен с провозглашенными принципами, а многие офицеры сражались бы с большим энтузиазмом под царским знаменем. Если бы Корнилов был жив, этой проблемы не существовало бы. Его авторитет среди войск был абсолютным, поэтому никаких недовольств бы не возникло. Деникин был не таким обаятельным руководителем, и в прошлом его заслуги не были такими значительными. Чтобы исправить ситуацию, вместе с Алексеевым в середине мая он издал «Декларацию Добровольческой армии».
«1. Добровольческая армия борется за спасение России путем:
а) создания сильной дисциплинированной и патриотической армии;
б) беспощадной борьбы с большевиками;
в) установления в стране единства и правового порядка.
2. Стремясь к совместной работе со всеми русскими людьми государственно мыслящими, Добровольческая армия не может принять партийной окраски.
3. Вопросы о формах государственного строя являются следующими этапами, они станут отражением воли русского народа после освобождения от рабской неволи и стихийного помешательства.
4. Никаких сношений ни с немцами, ни с большевиками. Единственно приемлемые положения: уход из пределов России первых и разоружение и сдача вторых».
Два руководителя решили обсудить политические вопросы со своими товарищами, для этого они 18 мая устроили собрание, на котором присутствовали все офицеры. Алексеев говорил об опасности сотрудничества с Германией, а Деникин говорил о монархизме:
«У России есть мощная армия, солдаты которой знают, как умирать и как побеждать. Но когда солдаты начинают задумываться о стратегии, о войне и мире, о монархии или республике, армия разваливается. Кажется, именно это сейчас и происходит. Нашей единственной задачей является борьба за освобождение России от большевиков, но многих не устраивает такая позиция. Они требуют немедленно поднять флаг монархии. Зачем? Чтобы разделить нас на лагеря и начать междоусобную войну? Чтобы три тысячи человек ставропольской милиции, с которыми мы сейчас ведем переговоры и которые против монархии, присоединились к Красной армии? Как мы, маленькая горстка людей, имеем право решать судьбу нашей страны без ее согласия, без согласия русских людей?»
Таким же опасным разногласием, каким был спор между монархистами и республиканцами, было разногласие между донскими и кубанскими казаками и вождями армии. Даже несмотря на наплыв русских офицеров в мае и июне, 50–70 процентов армии составляли кубанские казаки, а офицеры и казаки принадлежали к разным мирам. Деникин воспринимал проблему казачьего сепаратизма с удивительным равнодушием: он распустил казачьи подразделения, он унизил казаков, поставив их ниже офицеров, а также выступал против любого проявления независимой политики Рады и кубанского правительства.
Но Рада не испугалась: она послала делегацию к Скоропадскому, невзирая на недовольство Добровольческой армии. Переговоры, тем не менее, не принесли никакого результата. Украинское правительство согласилось поддержать Кубань только при условии, что Кубань войдет в состав Украины. Делегаты отказались от предложения частично из-за прогерманской ориентации Киева, частично из-за того, что понимали: их собственное правительство безнадежно слабое.
Кубанские лидеры также имели дела непосредственно с Красновым. Из-за германофильской политики Краснова представители Кубани не одобрили его план Доно-Кавказского союза, и сотрудничество между донскими и кубанскими казаками никогда не было тесным. Кубанские казаки не могли найти лучших союзников, чем Добровольческая армия. Но этот союз был условным; казаки присоединились к Добровольческой армии не потому, что разделяли ее идеологию и цели, а потому, что только эта организация обещала быстрое освобождение их родной земли.
Близорукость, характеризующая отношение Деникина к казачьей части своей армии, еще яснее видна в его отношении к атаману Дона, генералу Краснову. Личные черты генералов были прямо противоположными: Деникин – скромный, упрямый, совершенно честный и немного туповатый, в то время как Краснов – тщеславен и расчетлив. Между ними сразу возникла взаимная неприязнь, и, что самое неприятное, эти чувства влияли на все их действия и поступки.
Тем не менее, неправильно сводить конфликт между Доном и Добровольческой армией к конфликту двух людей, так как он зародился еще до того, как Краснов стал атаманом. Когда в начале мая Деникин получил известие об освобождении Новочеркасска казачьей армией, он послал генерала Кислякова наладить контакт с антибольшевистским Доном. Доклад Кислякова разочаровал Деникина. Временное правительство Новочеркасска вежливо, но твердо отказалось от предложения Деникина объединить их силы, также стало ясно, что казаки не разделяют враждебного отношения Деникина к немцам.
Деникин наблюдал за событиями в Новочеркасске с растущим беспокойством. Он несправедливо обвинял Краснова в появлении казачьего национализма, который играл большую роль во всех решениях «Круга спасения Дона». Его раздражали показные манифестации этого национализма, новый флаг и гимн. Еще больше он был поражен изменениями атмосферы в Новочеркасске, исключением иногородних из правительства Войска, возвращением к системе царских времен.

Плакат Белого движения
Первая встреча генерала Краснова и командования Добровольческой армии состоялась 28 мая в станице Манычской. Добровольческую армию представляли генералы Алексеев, Деникин, Романовский и атаман Филимонов, вместе с Красновым были генерал Богаевский и полковник Бикадоров. Встреча началась в час дня и продолжалась до позднего вечера, проходила в атмосфере враждебности. Для ее участников стало ясно, что и речи не может идти о тесном сотрудничестве Деникина и Краснова, которое существовало между Алексеевым и Калединым несколько месяцев назад. Каледин, который был на десять лет старше Деникина, имел репутацию одного из лучших генералов русской армии во время войны и уже командовал дивизией в 1914 году. Деникин, человек строгой морали, воспринимал бы Каледина как равного и не предпринимал бы попыток подчинить его себе. Краснова же он считал выскочкой. Он так и не понял, что революционная обстановка все перевернула; даже когда он нуждался в Краснове гораздо больше, чем атаман в нем, возможно, он считал его своим подчиненным, читая ему лекции и указывая ему, что делать. Краснова такое отношение возмущало. В своих мемуарах он писал, что сказал Деникину, что не потерпит его тон, так как он «больше не генерал теперь, а глава пяти миллионов человек».
Встреча в станице Манычской все же не прошла бесследно. Краснов обещал выделить Добровольческой армии 6 миллионов рублей из банка Ростова, а также продолжать поставлять немецкое снаряжение; он позволил открыть бюро по набору в армию в Новочеркасске и Ростове, обещал медицинскую помощь всем больным и раненым. Добровольческая армия взамен обещала защищать Дон от большевиков с юга. Без сомнения, Добровольческая армия выиграла гораздо больше от этого соглашения; так как большевики на Кубани были очень слабы, поэтому вряд ли бы решились напасть.
По всем же остальным вопросам руководство Добровольческой армии и донская делегация разошлись во мнениях. Деникин снова поднял вопрос об объединении командования, что, по сути, означало подчинение большей по численности Донской армии Добровольческой. Атаман, естественно, не был в этом заинтересован. Деникин возмущался, что немецкие солдаты в Батайске постоянно нападают на солдат Добровольческой армии и на казаков. Краснов пообещал, что этого больше не повторится, но был очень раздражен, так как считал все ложью. С одной стороны, Добровольческая армия получала оружие с Украины, с разрешения оккупирующих ее немцев; с другой стороны, Деникин не только сам не хотел иметь дело с немцами, но еще и призывал к этому Украину и Дон. Краснов так описал ситуацию несколько месяцев спустя на встрече Круга:
«Да, да, джентльмены, репутация Добровольческой армии чиста и безупречна. А я, донской атаман, беру грязные немецкие снаряды и пули, мою их в чистом Дону и отдаю их чистыми Добровольческой армии. Стыд за это дело остается со мной».
Горечь и сарказм замечания Краснова дает полную картину истинного отношения к руководству Добровольческой армии. Главной целью встречи в Манычской было скоординировать стратегию двух армий. Но по этому вопросу соглашение так и не было достигнуто, что будет детально описано в следующей главе.
После встречи в Манычской отношения продолжали ухудшаться и далее. Так как немцы стали вести политику против Добровольческой армии, они заставляли Краснова не только прекратить оказывать поддержку антигерманской армии, но и обезоружить ее и распустить или, по крайней мере, заменить генералов Алексеева, Деникина и Романовского на более покладистых. Краснову делает большую честь то, что он не только не принял этого предложения, но и продолжал помогать Добровольческой армии оружием и деньгами. Давление немцев заставляло Краснова еще больше раздражаться непримиримостью Деникина и его непониманием всех сложностей обстановки. Деникин, в свою очередь, был по-прежнему невысокого мнения о Краснове и волновался, что атаман выполнит требования немцев и предпримет шаги против добровольцев.
Так как Добровольческая армия и донское правительство придерживались разных направлений в международной политике и разных идеологий, было неизбежным то, что они привлекали последователей из противоположных лагерей. Большое число казаков, которых не устраивал консерватизм Краснова, предпочли перейти в Добровольческую армию. С другой стороны, более консервативные взгляды Краснова беспокоили Деникина, так как он помнил о том, что монархист полковник Дроздовский предпочел присоединиться к армии Краснова.
Одной из главных проблем двух армий стали непрекращающиеся ссоры между казаками и офицерами в Новочеркасске. Даже когда Добровольческая армия старалась держаться подальше от города, многие офицеры находили разные причины, чтобы только не оставаться в ужасно скучной станице Егорлыкской или Мечетинской. Казаки ненавидели своих союзников, а офицеры не переносили проявлений казачьего сепаратизма.
У Деникина сложились особо плохие отношения с тридцатидвухлетним генералом Денисовым, командующим Донской армией. Денисов хотел, чтобы Деникин воспринимал его как равного себе, а этого командующий Добровольческой армией вынести не мог. Денисов постоянно шутил над Добровольческой армией, и, конечно, рано или поздно эти шутки доходили до Деникина. На одном светском мероприятии в присутствии донских офицеров Добровольческой армии Денисов назвал добровольцев «бродячими музыкантами». Это выражение по каким-то причинам сильно задело Деникина. Позже, когда донское руководство попыталось реабилитировать себя в глазах союзников, Добровольческая армия сравнила их поведение с поведением проститутки, которая пытается продать себя тому, кто заплатит больше. Денисов ответил совершенно справедливо: «Если Донское войско – проститутка, продающая себя тому, кто может заплатить, то Добровольческая армия – сутенер, который живет и питается тем, что она зарабатывает».
Как и во времена создания Добровольческой армии, недостаток денежных средств вновь стал одной из главных проблем. Для содержания армии из 10 тысяч человек был необходим миллион рублей в неделю. Запасов Алексеева хватало лишь на первое время. Алексеев по этим причинам даже хотел распустить армию. 23 мая он написал Милюкову: «Без денег – с болью в сердце и со страхом за всех солдат – я вскоре буду вынужден распустить армию».
Недостаток средств препятствовал набору пополнения. Добровольческая армия открыла свои центры во многих крупных городах, освобожденных немцами от большевиков, но работа этих центров была очень ограничена нехваткой денег. Из-за бедности армия с трудом могла конкурировать с другими антибольшевистскими организациями (например, Южной армией или Астраханской армией), которые прекрасно были обеспечены немецкими деньгами.
Главным источником денег было донское правительство, что было очень унизительно для высших командиров армии. Алексеев пытался обратиться к богачам Ростова, но результат оказался скудным. Также неудачной оказалась и попытка получить деньги через связи Милюкова в Киеве; Милюков настоятельно порекомендовал ему принять условия сотрудничества с Красновым. В середине мая Алексеев послал двух эмиссаров в Вологду, чтобы попросить помощи у дипломатов европейских союзников. Через несколько недель армия получила 10 миллионов рублей от французов, что явилось самой крупной суммой, выделенной Антантой.
Кроме того, в середине мая генерал Б. Казанович поехал Москву в сопровождении А. А. Ладышинского, чтобы заключить финансовые контракты. Хотя основная миссия Казановича не была выполнена, все же поездка была не бесполезна, так как были налажены контакты с московскими политическими кругами, которые были разорваны во время Ледяного похода.
Казанович был весьма разочарован тем, что увидел в Москве. Он приехал в то время, когда консервативные политические круги все больше понимали необходимость принятия немецкой помощи. Например, известный при царе политик и бывший министр сельского хозяйства Кривошеин сказал ему, что без немецкой поддержки ничего нельзя сделать, что офицеры, живущие в Москве, не должны присоединяться к Добровольческой армии, а должны попытаться свергнуть большевиков с помощью Германии.
Казанович присутствовал на заседании «Правого центра», на котором после долгих страстных дебатов по поводу отношения к немцам единство организации исчезло. Вскоре после этого появился «Национальный центр». По идеологии организация была ближе всех остальных Добровольческой армии. М. М. Федоров, руководитель этой организации, даже предлагал Казановичу примкнуть к ним. Генерал тем не менее решил, что он, как представитель Добровольческой армии, не может поддерживать одну организацию в борьбе с другой. Его отношения с «Национальным центром» ухудшились, когда он попытался наладить контакт напрямую с французами.
Организация утверждала, что все общение с иностранными представителями должно вестись только через нее. (Казанович не обратил внимания на протест Федорова и получил полмиллиона рублей через французское консульство в Москве.)
Казанович встретился со многими людьми, представителями всех антибольшевистских организаций. У генерала возникло впечатление, что ни одна из этих группировок не обладает необходимой решительностью и смелостью, чтобы действовать, и что Добровольческая армия не должна ждать от них помощи. В конце июня он решил вернуться на юг.
Так как политический центр антибольшевистского движения сместился из красной Москвы в оккупированный немцами Киев, связи Добровольческой армии с политическими кругами наладились. Гонцы и делегации постоянно ездили из Мечетинской в украинскую столицу. В то же время армия подвергалась сильному давлению, направленному на то, чтобы изменилось отношение к немцам. Многие из тех людей, которые придерживались монархических взглядов, теперь просили Деникина хотя бы относиться к захватчикам не так враждебно. Краснов, главный поставщик военных материалов, также пытался сделать все, чтобы заставить увидеть ситуацию в ином свете. Но самым главным источником давления были сами офицеры Добровольческой армии. Совершенно справедливо воспринимая большевиков единственными своими врагами, они не хотели разделять враждебность по отношению к немцам.
Один раз, когда Деникин обратился к собравшимся офицерам, чтобы обозначить свою позицию в отношении монархизма, Алексеев упомянул об опасности немецкой ориентации. Когда Алексеев назвал немцев «врагами такими же злыми и беспощадными, как и большевики», один из офицеров прервал его: «Если они и враги, то самые воспитанные». Алексеев же продолжил говорить о том, что сотрудничество с немцами для них неприемлемо с моральной точки зрения.
Почему Алексеев и Деникин не последовали примеру Краснова и еще десятка политиков и не обратились к немцам за помощью? Без сомнения, они искренне верили в безоговорочную победу Антанты, но эта уверенность была основана только на чистой вере, так как они обладали неточной информацией о том, что происходит на Западном фронте. Отношение генералов к немцам объясняется их честностью и антигерманскими предубеждениями. Они верили, что Россия связала свою судьбу со странами Антанты. Вот почему Деникин был сильно разочарован, когда получил лишь половину того, что просил у союзников в 1919–1920 годах. Он ненавидел немцев. Всю свою жизнь Деникин считал, что именно Германия втянула Россию в Первую мировую войну.
Очень сложно найти связь между либеральными взглядами Деникина и его верой в союз Антанты. Деникин никогда ничего не говорил по этому поводу, но, возможно, его симпатия к Англии и Франции объясняется тем, что ему нравились их политические и социальные системы.
Как раньше Временное правительство Керенского не могло решить, что же важнее, «углублять революцию» или продолжать войну, так и лидеры Добровольческой армии не могли решить, бороться с большевиками или продолжать войну. Они, как уже говорилось, считали большевиков агентами Германии, и это характеризует их как людей, не разбирающихся в политике и дипломатии.
С самых первых месяцев оккупации Южной России немцы, безусловно, пытались добиться хороших отношений с Добровольческой армией. Сложно сказать, каким образом они собирались сделать это. Но отдельные немцы выражали свою симпатию к антибольшевистским офицерам очень много раз, а также демонстрировали уважение к русским. Так как Добровольческая армия больше не угрожала интересам Германии, они были готовы закрыть глаза даже на антантофильские лозунги Алексеева и Деникина. Например, Добровольческая армия открыла бюро зачисления в армию в Киеве под начальством полковника Рязанского, который отослал в Мечетинскую сотни солдат. Немецкие власти не давали разрешения на открытие бюро, но и не мешали его работе, просто притворились, что ничего не замечают. Без сомнения, немцы знали, что часть военной амуниции, которую они регулярно поставляют Краснову, идет в Добровольческую армию, враждебно настроенную к ним. Деникин и Алексеев не могли ожидать лучшего отношения от их «врагов».
Внезапные жесты доброй воли немцев смущали Деникина и Алексеева. Они получали выгоду от поведения немцев и подумали, что необходимо оправдать себя в их глазах. Руководство армии объясняло это тем, что оружие, полученное от Краснова, берется у большевиков, а значит, это русское оружие. Вряд ли нужно напоминать, что далеко не все оружие было взято у большевиков.
Однажды в Новочеркасске генералу Алексееву пришлось встретиться с немецким представителем в присутствии атамана Краснова. Алексеев не шел ни на какие компромиссы. Он избегал отвечать на вопросы немца: «Будет ли Добровольческая армия негласно сотрудничать с Германией и держать в тайне свою симпатию к союзу Антанты?» Когда он отказался даже пообещать, что его армия не будет помогать чехам, немец встал и сказал: «В таком случае вы встретитесь с немецкими войсками».
Человеком, который сделал очень многое, чтобы примирить немцев и Добровольческую армию, был П. Н. Милюков, лидер партии кадетов, старый друг Алексеева. Милюков провел несколько месяцев в Ростове, занятом большевиками, и планировал вернуться в Москву после ее оккупации немцами. Дисциплинированность немецких войск, становление пронемецких правительств в лице Скоропадского и Краснова произвели впечатление на него. Он начал верить, что меры, предпринятые немцами в Киеве против большевиков, помогут и в Москве. Даже если бы немцы отказались, Милюков думал, что создание независимого правительства на периферии России под немецкой защитой поможет организовать базу национального антибольшевистского движения. Он считал очень важным единство движения, а так как Германия оккупировала значительную часть империи, он понимал, что такое единство можно достичь лишь под защитой немцев.
Милюков, чья прогерманская ориентация была далека от раболепия Скоропадского и беспринципного подхалимства Краснова, все еще пользовался авторитетом среди русских антибольшевиков, а поэтому его переориентировка имела огромное значение. Он мог оказать влияние на многих своих друзей-политиков, даже на генерала Алексеева. Он решил ехать в Киев, вместо Москвы, чтобы наладить контакт с немецким командованием. Перед отъездом он поставил в известность Алексеева о своих намерениях. Хотя Алексеев попросил его помочь киевскому представителю, полковнику Рязанскому, Милюков считал, что поедет в Киев сам в качестве представителя Добровольческой армии.

Лидер кадетской партии Павел Милюков
Кадетский политик пытался примирить немцев и командование Добровольческой армии. В Киеве у Милюкова состоялось несколько разговоров с немецким дипломатом майором Хаасом на разные темы, в том числе и о Добровольческой армии. Хаас выразил сомнение по поводу способности Добровольческой армии освободить Москву, сказал, что, если вожди армии будут настаивать на своем антигерманском настроении, белогвардейцам придется отступить. Чтобы добиться хорошего расположения немцев, Милюков притворился, что обладает информацией о намерениях армии изменить свою политическую линию.
В своих письмах к Алексееву Милюков всегда изображал немцев в лучшем свете, писал о том, что видит признаки, что они пойдут против большевиков. Тем не менее произошедшее не ответило ожиданиям Милюкова. В июле немцы были обеспокоены успехами чехов, которые заявляли, что Антанте удастся восстановить Восточный фронт. Принимая в расчет изменения, а также антантофильскую ориентацию Добровольческой армии и возможность Деникина объединиться с чехами, немцы поняли, что Берлину угрожает опасность. 9 июля немцы категорически запретили набор в Добровольческую армию и приказали арестовывать всех офицеров, принадлежащих к этой организации. Некоторые офицеры действительно были арестованы, но спустя некоторое время все-таки отпущены на свободу, но дальнейшая работа бюро была исключена.
Так как немцы поняли, что не смогут одержать победу над руководством Добровольческой армии, они решили создать отдельные белые армии, чтобы привлечь русских офицеров. Этот шаг нанес серьезный удар по Добровольческой армии. Две армии, обеспеченные немцами, Астраханская и Южная, использовали монархические лозунги, которые привлекли сотни офицеров. Ни одна из них не стала серьезной силой; организаторы Южной армии, герцог С. Г. Лейхтенбергский и М. Е. Акацатов, и организатор Астраханской армии, князь Тундутов, не смогли найти талантливых командующих. Две армии стали жертвами обстоятельств; у них был огромный штаб, но мало солдат. Тем менее создание этих двух армий нанесло сильный удар Добровольческой армии, так как лишило ее потенциального пополнения.
Милюков осознал, что его попытка примирить немцев и Добровольческую армию не удалась. В начале июля он написал Алексееву, что если немцы сейчас войдут в Москву, то сделают это как союзники большевиков, что они будут склоняться разделить Россию на части, потому что только так смогут обеспечить свою безопасность.
Немцы были раздражены таким предупреждением Милюкова. Германский посол на Украине сказал Скоропадскому, что Милюков предложил сместить его. Раздраженный гетман сначала хотел арестовать лидера кадетов, но не сделал этого из-за яростного протеста кабинета министров. Чтобы не подвергать жизнь опасности, Милюков решил покинуть Киев.




