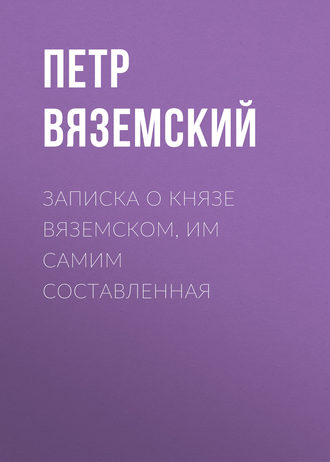
Петр Вяземский
Записка о князе Вяземском, им самим составленная
Первое, что до сведения государя императора, в проезд его чрез Варшаву, доведено было, что в разговорах моих я горячо защищал мнения, произносимые в Палате французских депутатов теми из членов, коим приписываются все бедствия, постигшие Францию. Второе, что, выезжая из Варшавы, не явился я откланяться к великому князю. В заключение сказано было, что государь, желая чтоб мнение чиновника, употребленного правительством, не было в разногласии с видами его и чтобы, с другой стороны, не подавал он примера неуважительности к особе его августейшего брата, запрещает мне въезд в Варшаву. В этих двух обвинениях оправдываюсь тем, что Франция не была тогда еще раздираема бедствиями революции, что обе партии, разделявшие и разделяющие и поныне палату депутатов и самые умы Франции, входили неизбежно в сущность стихии правления, существующего в ней, что сие тем доказывается, что часто король из среды нынешних противников министерства, и следовательно правительства, избирает своих завтрашних министров. Поэтому бескорыстным пристрастием к талантам той или другой стороны, в тяжбе французских мнений я никак не мог видеть русское преступление; впрочем, и самые разговоры мои о таких предметах не могли иметь никакой политической важности: они возникали и умирали в приятельских беседах. Не знаю, какою таинственною силою воскресили их из мертвых и поставили их против меня обвинительными привидениями. Что же касается до другого обвинения, то клянусь совестью, что никак не полагал обязанностью явиться к великому князю перед отъездом моим и не знал, что это в числе установленных обыкновений. Напротив, полагая, что все мои сношения с великим князем существуют только в силу его милостивого благорасположения ко мне, то, уже лишенный оного и чуждый ему по роду службы своей, я даже и не имел права, так сказать, насильственно поддерживать сии сношения, для него тогда уже неугодные. Письмо Новосильцева взволновало меня, хотя, отдам ему справедливость, и было оно приправлено выражениями его сожаления, что он лишается во мне чиновника, которого всегда уважал. Выше сказал я, что думал и прежде оставить Варшавскую службу, но мне казалось, что могли поступить со мной иначе. Неприятный великому князю я, конечно, не мог быть оставлен в Варшаве, а государь император не мог колебаться в чувствах и выборе. Я должен был быть удален, но не изгнан позорно, когда дети мои и дела мои требовали присутствия моего, и весь дом мой еще был в Варшаве. Дождавшись возвращения моего, Новосильцев изъявил бы мне о воле государя, чтоб я переменил службу и местопребывание, и все бы обошлось без огласки. Подобное снисхождение ко мне тем было бы естественнее, что по самому письму Новосильцева видно, что не имели достаточного обвинения против меня, или имели такие, в которых не хотели сознаться. В первую минуту волнения написал я прошение на высочайшее имя об отставке моей из звания камер-юнкера. Сей крутой и необыкновенный разрыв со службою запечатлел в глазах многих мое политическое своеволие. Карамзин был тогда в Царском Селе, и император также. Я уведомил Карамзина о случившемся со мною, когда уже подано было мое прошение, и заклинал его об одном, не ходатайствовать за меня при государе. С свойственным ему благородством и нежным участием в судьбе близких его сердцу он просил у государя не помилования мне, но объяснения в неприятности, постигнувшей меня. Письмо Новосильцева не казалось ему достаточным, и он подозревал меня в утаении от него вины более положительной. Государь подтвердил с некоторыми развитиями то, что сказано было в письме, и прибавил, что, несмотря на то, я могу снова вступить в службу и просить, за исключением Варшавы, любого места, соответственно моему чину. Я упорствовал в своем намерении, вопреки советам и убеждениям Карамзина. Сим кончилось мое служебное поприще и началось мое опальное. Вот во всей истине мое варшавское приключение, которое и ныне еще упоминается мне в укоризну и придает какую-то бедственную известность моему имени, когда друзья мои говорят в мою пользу сановникам, знающим меня по одному слуху. Говорю только о сущности и официальности моего приключения, а впрочем до сей поры не знаю его прикладных подробностей; а в подобных делах тексты маловажны; вся важность в тайных пояснительных комментариях. Могу по крайней мере сказать решительно, что в поведении моем в Варшаве не было ни одного поступка предосудительного; в связях моих ничего враждебного и возмутительного против правительства и начальства. Я поддержал там с честью имя Русского, и, прибавлю без самохвальства, общее уважение ко мне и сожаление, что меня удалили из Варшавы, показывают, что я не был достоин своей участи и что строгая мера, меня постигшая, была несправедливостью частною и ошибкою политическою. Могу сослаться на письмо ко мне князя Заиончека, которого нельзя подозревать в невоздержанном либерализме. Я писал ему из Москвы по делу постороннему; он, отвечая на письмо мое, отзывался о моем пребывании в Варшаве и о сожалении, от своего имени и всех сограждан, что меня уже там нет, в выражениях самых лестных. С того времени я более жил в Москве и предался занятиям литературным. Эпиграммы мои, звание критика навлекли на меня недоброжелателей. Имя мое, оглашенное у правительства, показалось доступною поживкою людям, кои служат правительству, стараясь уверить его, что у него много противников. В новое доказательство тому, упомяну о следующем. Несколько дней после отставки моей государь, по обыкновению своему гуляя с Николаем Михайловичем Карамзиным в Царскосельском саду, сказал ему однажды: вот вы заступаетесь за князя Вяземского и ручались, что в нем нет никакой злобы, он на днях написал ругательные стихи на правительство. Карамзин, пораженный сим известием, сказал, что спорить не смеет, но, зная меня и мой характер, не может поверить, чтобы я именно в минуту оскорбления и огласки стал изливать свое неудовольствие в пасквилях. Государь обещал принести на другой день письменное доказательство и в самом деле показал Карамзину тщательно и красиво переписанные стихи, ему неизвестные, где выведено было сатирическое сравнение Петербурга с Москвою. По счастию, между прочими стихами, Карамзин встретил такие, которые отдельно давно были ему известны. Он сказал о том государю. Что же вышло? Государю представили за новые стихи, написанные мною лет за десять перед тем, и, следовательно, шалость моей первой молодости. Карамзин сказал тут государю, что в тот же день дело объяснится, что он меня ждет из Петербурга к обеду, чтобы отпраздновать вместе день моего рождения, и спросит меня о стихах. Государь, по редкой черте добродушия и тонкой вежливости, просил Карамзина оставить это дело и не расстроивать радости семейного свидания неприятными впечатлениями. Промышляющие моими политическими мнениями начали промышлять и моею частною жизнью. Я знаю, что государь отзывался людям, которые ему говорили обо мне, с благонамеренностью, как о человеке не строгого и не трезвого жития[7]. Я никогда не любил ни ханжить, ни шарлатанить своими мнениями и нравами. Не почитаю себя в праве оспоривать у кого бы то ни было награды целомудрия, но решительно и гласно говорю, что и в самые молодые лета мои не бывал я никогда распутным и развратным. Любя заниматься по утрам, любил я всегда поздно обедать; ранние желудки некоторых московских бригадиров, знавши, что я иногда встаю со стола в седьмом часу вечера, люблю продолжать застольные разговоры за рюмкою вина, в кругу близких приятелей, не могли переварить моих поздних обедов и, вероятно, почли их попойками. Впрочем, после я также имел случай увериться, что государь был ко мне расположен благосклоннее. Убежден людьми мне близкими, просил я наконец у государя чрез Карамзина в случае ваканции вице-губернаторское место в Ревеле, который мне полюбился после лета, проведенного мною для морских купаний. Государь приказал обещать мне это место, когда оно упразднится. Если же государь и продолжал до конца быть не совсем хорошего мнения обо мне, то и это понимается. Последние годы царствования его были годами недоверчивости и опасений. Глухое роптание предвещало, что волнение зрело: подозрения его не были определительны и могли падать на меня наравне с многими другими, в особенности же после моей варшавской огласки. Но и в таком случае должен я признаться с благодарным уважением к его памяти, что и подозрение его было незлобно. С ходатайства Карамзина дал он сейчас высочайшее соизволение свое на покупку имения моего в казенное ведомство, когда он узнал, что я прошу о том для устройства дел своих, пришедших в упадок Как бы то ни было и на каком замечании я у правительства ни находился, но я не был тревожим в последние годы царствования покойного императора. 19-ое ноября 1825 года отозвалось грозно в смутах 14-го декабря. Сей бедственный для России день и эпоха кровавая, за ним следующая, были страшным судом для дел, мнений и помышлений настоящих и давно прошедших. Мое имя не вписалось на его роковые скрижали. Сколь ни прискорбно мне было, как русскому и человеку, торжество невинности моей, купленное ценою несчастия многих сограждан и в числе их некоторых приятелей моих, падших жертвами сей эпохи, но по крайней мере я мог, когда отвращал внимание от участи ближних, поздравить себя с личным очищением, совершенным самыми событиями. Мне казалось, что я в глазах правительства отъявленный крамольник, бывший в приятельской связи с некоторыми из обвиненных и оказавшийся совершенно чуждым соумышления с ними, выиграл решительно свою тяжбу. Скажу без уничижения и без гордости: имя мое, характер мой и способности мои могли придать некоторую цену завербованию моему в ряды недовольных, и отсутствие мое между ими не могло быть делом случайным и от меня независимым. Это должно было переменить мнение обо мне. По странному противоречию, предубеждение против меня не ослабло и при очевидности истины. Мне известно следующее заключение обо мне: отсутствие имени его в этом деле доказывает только, что он был умнее и осторожнее других[8]. Благодарю за высокое мнение о уме моем; но не хочу променять на него мое сердце и мою честь. В таких словах отзывается или неумышленность неведения, или эхо замысловатой клеветы. Нет, те, которые меня знают, скажут, что ни сердце, ни ум мой не свойства расчетливого и промышленного. Если я был бы хоть и неизвестным содействующим лицом в бедственном предприятии, то верно был бы налицо сотоварищей в несчастии. Ни в каком случае меня не пощадили бы: ни подсудимые, потому что они не пощадили никого, ни судии, потому что, еще того вернее, я не имел в них ни одного доброжелателя. Кстати о характерических отзывах, обо мне распускаемых, припомню еще одно. Мне известно, что до правительства было доведено в последний мой приезд в Петербург слово, будто сказанное Александром Пушкиным обо мне: «вот приехал мой Демон!» Этого не сказал Пушкин или сказал да не так Он не мог придать этим словам ни политический, ни нравственный смысл, а разве просто шуточный и арзамасский, если только и произнес их. (В Арзамасе прозвище мое Асмодей.) Они ни в духе Пушкина, ни в моем. По сердцу своему, он ни в каком случае не скажет предательского слова, по уму, если и мог бы он быть под чьим влиянием, то не хотел бы в том сознаться, а я ни чьим, а еще менее пушкинским соблазнителем быть не могу. Я был неосторожен, в мнениях своих заносчив, за себя, но везде, где только имел случай, умерял всегда невоздержность других. Ссылаюсь на письма мои, которые столько раз бывали в руках правительства. Сюда также идет опровержение донесения, или просто лживого доноса, представленного нынешнему правительству о каком-то тайном, злонамеренном участии, или более направлении в издании «Телеграфа». Не стану входить в исследование: может ли быть что-нибудь тайное, злоумышленное в литературном действии, когда существует цензура, мнительная, строгая и щекотливая, какова наша; скажу просто: я печатал сочинения свои стихами и прозою в Телеграфе, потому что по условию, заключенному на один год с его издателем, я хотел получить несколько тысяч рублей и таким оборотом заменить недоимки в оброке с крестьян наложением добровольной подати на публику. В этих несправедливых притязаниях, как и в последнем доносе на меня, также по поводу журнала мне неизвестного, который будто готовлюсь издавать под чужим именем, вижу одно гнусное беспокойство некоторых журналистов, позорящих деятельностью своею русскую литературу и русское общество… Они помнят мои прежние эпиграммы, боятся новых, боятся независимости моего прямодушия, когда предстоит мне случай вывесть на свежую воду их глупость или криводушие, боятся некоторых прав моих на внимание читающей публики, боятся совместничества моего для них опасного, и в бессилии своем состязаться со мною при свете дня, на литературном поприще, они подкопываются под меня во мраке, свойственном их природным дарованиям и насущному ремеслу. Вот, однако же, тайные пружины, которые, так сказать, без ведома власти настроивают гнев ее против гражданина, несмотря на преданность сих мнимых прислужников ее, конечно, более их достойного снисходительности и внимания правительства. Не знаю, их ли злоба или злоба других, но направление ее в ударе, нанесенном мне в последнее время, достигло до вышней степени. В сообщении по высочайшей воле, доставленном от графа Толстого к князю Голицыну в Москву, по поводу журнала, о котором я не имел понятия, нанесены чести моей живейшие оскорбления. «Никто без суда да не накажется», а разве обесчестить человека не есть наказание, и тем тягостнее, когда оно не гласно. Гласная несправедливость носит в себе предохранительное и удовлетворительное противоядие, которое спасает жертву ей подпавшую; но полугласность, как удар незримого врага, неизбежим и неотразим. Поносительное для меня отношение графа Толстого известно во многих канцеляриях. Разве такая оскорбительная полугласность не есть лютейшее наказание для человека, дорожащего своим именем? Судебным порядком я не мог подлежать наказанию. Следовательно, я был наказан без суда и без справедливости. И все это последствие отступлений от правосудия из какого источника истекает? Из корыстолюбия каких-нибудь подлых газетчиков, которые боятся, что новый газетчик отобьет у них подписчиков. Правительство в таком случае поступает и вопреки благонамеренным видам, нарушением общей справедливости, лицеприятными исключениями, и вопреки пользе просвещения, стесняя деятельность и совместничество умов. Злоупотреблением имени моего наказан и издатель газеты предполагаемой, которому запретили ее издавать, думая, что он находится в каких-то сношениях со мною, когда я ни лица, ни имени его не знаю. В этом отношении еще замечу, что правительство, стесняя мои занятия литературные, лишает меня таким образом общего права пользоваться моею собственностью на законном основании. Такое нарушение справедливости не входит, без сомнения, в намерения правительства, но не менее того истекает из мер, им принимаемых. Что же касается до приговора, мне изреченного, не знаю, до какой степени имеют право позорить имя человека за поступки, не входящие в число ни гражданских, ни политических преступлений: заблуждения, в которых можно каяться духовному отцу, не подлежат расправе светской власти. Но как бы то ни было могу сказать решительно, что ни в каком отношении не заслуживаю выражений, употребляемых обо мне. «Развратная жизнь, недостойная образованного человека, предосудительность поведения, которое может служить к соблазну других молодых людей и вовлечь их в пороки», суть обвинения такого рода, что примененные ко мне, они, без сомнения, возбудят негодование каждого честного человека, меня знающего, и сожаление, что правительство слишком легковерное к выдумкам клеветы основывает мнения свои о людях на подобных показаниях. Удивляюсь, что граф Толстой, хотя и был бы он в этом случае одним безусловным исполнителем, мог без всякой оговорки, без малейшей попытки объяснения подписать свое имя под таким поносительным приговором. Или нет в нем памяти, или должен он знать меня таким, каким знал в долгом пребывании своем в Москве. Он знал мои связи, смею сказать уважение, которым пользуюсь в обществе и которым обязан своему характеру, именно поведению своему, ныне его же рукой опятненному, а не блеску почестей или богатства, часто заменяющих в глазах света недостаток в качествах не столь случайных. Правительство лучше моего знает, кто мои недоброжелатели и тайные враги: пускай велит оно исследовать, кого могу назвать в числе людей ко мне благорасположенных и в числе друзей своих и этою поверкою оно, надеюсь, убедится, что имею полное право равно гордиться и неприязнью одних и дружбою других, которую умел я заслужить. Повторяю сказанное мною в письме к князю Голицыну в ответ на сообщенную мне бумагу графа Толстого. Я должен просить строжайшего исследования поведению моему. Повергаю жизнь мою на благорассмотрение государя императора, готов ответствовать в каждом часе последнего пребывания моего в Петербурге, столь неожиданно оклеветанного!







