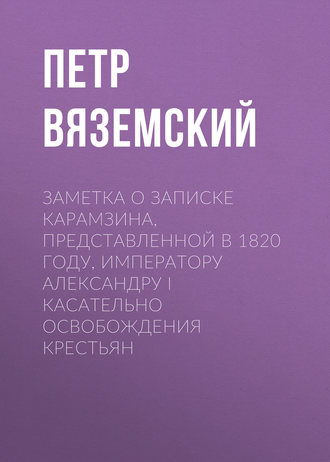
Петр Вяземский
Заметка о записке Карамзина, представленной в 1820 году, Императору Александру I касательно освобождения крестьян
В тот же день граф Воронцов встретился с князем Вяземским в Царском Селе, на вечере у князя Федора Сергеевича Голицына. Но, вероятно из осторожности и опасения огласки, не сказал ему ни слова об исходе или, вернее, о падении зачатого дела, а поручил Жуковскому его о том уведомить. Тем дело и закончилось. Неизвестно, что могло или кто мог повредить в уме Государя предприятию, которое началось так благонадежно и с такими залогами прочного и желанного осуществления. Впрочем, как эта попытка не держалась втайне, но, вероятно, что-нибудь о ней да проскользнуло в городские слухи Вследствие того противники освобождения крестьян, а может быть и недоброжелатели некоторых из подписавшихся лиц, нашли доступ к Государю, представили дело в превратном виде и успели зародить сомнения и подозрения в осторожном и малодоверчивом нраве Императора Александра. рассказывали тогда, что граф Потоцкой, после претерпенной неудачи просил на коленях прощения у Государя и каялся пред ним, как будто в преступном замысле. Но нельзя полагать, чтобы все это дело оставило в Государе невыгодное впечатление и неудовольствие против подателей помянутой записки. По крайней мере несколько дней спустя, Государь встретясь, в обыкновенной утренней прогулке по Царскосельскому саду, с Карамзиным, сказал ему: – «Вы полагаете, что мысль об освобождении крестьян не имеет ни отголоска, ни сочувствия в России, а вот получил я на днях прошение, противоречащее вашему мнению. Записка подписана все известными лицами, между коими и ваш родственник князь Вяземский». Сей последний не говорил о тон Карамзину, не потому что он считал Карамзина противником освобождения, а потому что положено было держать это дело втайне. Упомянув о Карамзине, ныне при ожесточенных нападках на него в некоторых журналах наших, невольно хотелось бы войти в исследование и оценку воззрения его на вопрос освобождения крестьян и на другие так называемые либеральные вопросы. Но ответы и возражения на обвинения ополчившихся против памяти Карамзина вовлекли бы в слишком далекую полемику. Можно ограничиться на первый раз изложением некоторых мыслей и указаний. В означенных нападках нередко встречаешь глубокое неведение о том, что было, и поверхностное и одностороннее воззрение на то, что есть: что также равняется неведению. Оценщики Карамзина и среды ему современной покушаются и силятся выставить его человеком отсталым, даже в свое время и врагом всякого изменения и улучшения в государственном устройстве. Такой суд над ним совершенно ложен. Мишенью для обстреливанья и чуть ли не расстреливанья Карамзина служит обыкновенно записка о древней и новой России. Нет сомненья, что эта записка может быть признана политической и гражданской исповедью автора. Из неё видно, что Карамзин не сочувствовал поспешным и, по мнению его, нередко мало обдуманным нововведениям, которые должны были прирости к почве на развалинах. Как историк, он опасался крутой ломки настоящего, которое, так сказать, на глазах его воплотилось из событий минувшего. Он знал из опыта веков, что история и судьбы народов не упрочиваются скачками, а совершаются постепенно и медленно, как всякое благоразумное и благонадежное развитие. Есть школа историческая и та, что можно назвать скороспелою школой публицистики. Карамзин умом, верованиями и душою принадлежал первой.







