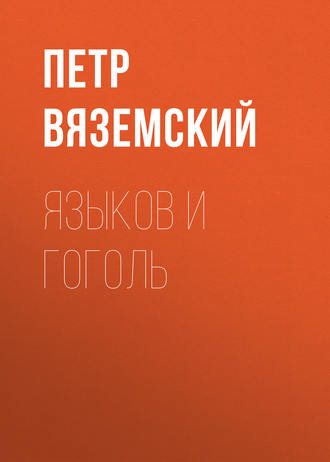
Петр Вяземский
Языков и Гоголь
III
Прежде нежели начнем подробный разбор книги Гоголя, спешим сказать о ней наше мнение вообще. Оно будет заимствовано из слов самого автора: она была нужна. Это лучшая похвала книге. Так нужен был перелом. Перелом этот тем полезнее, что противодействие истекло из той же силы, которая невольно, но не менее того всеувлекательным стремлением, дала пагубное направление. Объясним свою мысль. На авторе лежала обязанность не двусмысленно, не сомнительно, а гласно и, так сказать, торжественно разорвать с частью своего прошлого, то есть не столько своего собственного прошедшего, сколько того, которое ему придали, с одной стороны, безусловные и чрезмерные поклонники, а с другой – многочисленные и неудачные подражатели. Те и другие сильно опутали и оговорили ответственность его. Я всегда был того мнения, что Гоголь сам по себе и сам за себя дарование необыкновенное, что он занимает светлое и высокое место в литературе нашей; но вместе с тем, что как родоначальник школы, во что хотели возвести его, он был не только не у места, но даже вреден. Отдельный голос его имел прекрасное и полезное значение. Но на беду сто голосов подтянули ему и все дело испортили. Рано или поздно Гоголь с своим метким и рассудительным умом должен был это почувствовать и опомниться. Нет сомнения, что на крутой поворот его, который так всех удивил и многих сбил с толку, подействовали не столько озлобленные противники, сколько бедные приверженцы его. Чему мог научиться он от хулителей своих? ровно ничему. Выдавая себя за белоручек и недотрог, они только чопорно возмущались и брезгали картинами его, не довольно опрятными для их целомудренной взыскательности. Из творений Гоголя испарялись запахи которые тревожили их изнеженные нервы. Эти господа, как городничиха в «Ревизоре», хотят, «чтобы у них в комнате все было амбре». Тогда, зажмуря глаза и нюхая, они говорят: «Как хорошо!» Забавно было видеть, как они учили Гоголя светской вежливости и утонченным приемам своего избранного круга. Здесь кстати вспомнить то, что Пушкин давно уже сказал о них: «Что за нежный и разборчивый язык должны употреблять господа сии с дамами! Где бы, как бы послушать? – То-то и беда, что нашему брату негде». Разумеется, все эти упреки и требования наших журнальных маркизов и мирлифлеров мало озабочивали смиренную и опростонародившуюся натуру Гоголя. Стало быть, учение их пошло не впрок. Но что сделать не могли неприятели, то предоставлено было делать друзьям. Пошлая брань и неосновательные придирки могли и должны были проскользнуть мимо внимания его. Но чрезмерные, часто ложные похвалы, приторные гимны усердных поклонников не могли не навесть уныния на человека с умом светлым и высоким. Тут и самолюбие не могло помочь. Самое ненасытное самолюбие не устояло бы против такого пресыщения. В некоторых журналах имя Гоголя сделалось альфою и омегою всякого литературного рассуждения. В духовной нищете своей, многие непризванные писатели кормились этим именем, как единым насущным хлебом своим. Я очень понимаю, что наконец Гоголю должны были опротиветь и самое имя его и творения, им написанные. Для умного человека, сознающего свое достоинство, нет ничего тошнее и оскорбительнее похвалы невпопад и неуклюжей. Другой, одаренный веселостью более беспечною и насмешливою, дружески и радушно подшутил бы над своими назойливыми хвалителями. Он попросил бы их оставить его в покое и, пожалуй, смешить благоразумных людей, если им того хочется, но по крайней мере не его именем, не его авторскою личностью. Но смешное, то есть безобразное, не всегда возбуждает в Гоголе чистую веселость. Она не всегда выражается у него простосердечным смехом. Часто в насмешливости его отзывается горечь и глубокая скорбь. Досмотрите на многие карикатуры его: смешно и больно. От смеха тяжело на сердце. Он в некотором отношении Гольбейн и, например, «Мертвые души» его сбиваются на пляску мертвецов. Это почти трагические карикатуры. Таковое замечательное и странное свойство его отозвалось и в этом случае. Идолопоклонство, которого он сделался целью, показалось ему так смешно, что ему стало до нестерпимости грустно. Смешное смешным само по себе, но в этих похвалах было и такое, которое неминуемо должно было растревожить и напугать его здравый ум и добросовестность; его хотели поставить главою какой-то новой литературной школы, олицетворить в нем какое-то черное литературное знамя. Таким образом с больных голов на здоровую складывали все несообразности, все нелепости, провозглашаемые некоторыми журналами. На его душу и ответственность обращали все грехи, коими ознаменовались последние годы нашего литературного падения. Как тут было не одуматься, не оглядеться? Как писателю честному не осыпать головы своей пеплом и не отказаться с досадою от торжества, устроенного непризванными и непризнанными руками? Все эти ликторы и глашатаи, которые шли около него и за ним с своими хвалебными восклицаниями и праздничными факелами, именно и озарили в глазах его опасность и ложность избранного им пути. С благородною решимостью и откровенностью он тут же круто своротил с торжественного пути своего и спиною обратился к своим поклонникам. Теперь, оторопев, они не знают, за что и приняться. Конечно, положение их неприятно и забавно. Но что же делать? Сами накликали и накричали они беду на себя. Но впрочем, в утешение свое, если вырвался из рук их живой, могут они удержать за собою мертвых. Пушкин, Лермонтов, Грибоедов и этот бедный, неповинный Кольцов, который бог знает как сюда попал, не могут уже вступиться за себя. Над ними безнаказанно могут они продолжать опыты своей гальванической критики. Так безжалостно и погоняют они их на своем журнальном заколдованном колесе, которое бесконечно у них вертится, не подвигаясь ни на шаг вперед.







