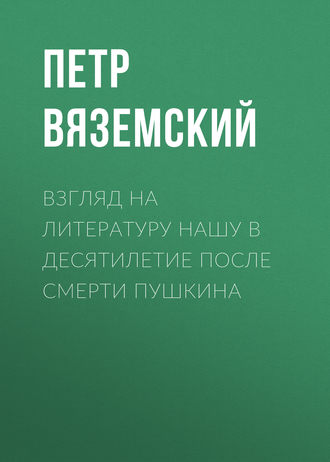
Петр Вяземский
Взгляд на литературу нашу в десятилетие после смерти Пушкина
Мы видим, что железные дороги частью уже упразднили, а со временем и окончательно упразднят бывшие путевые сообщения. Другие силы, другие пары давно уже уволили огнекрылатого коня, который ударом копыта высекал животворные потоки, утолявшие благородную и поэтическую жажду многих поколений. Ныне Пегас – та же кляча Росинант, на которой разъезжал рыцарь печального образа, и поэт в наше время едва ли не тот же Дон-Кихот.
II
Мы по привычке своей несколько уклонились от предназначенного себе пути. Увлекаясь проселочными дорожками, мы невольно и незаметно для себя забрались в чужие отъезжие поля. Что же делать, если эти соседние поля более заманчивы, чем наши? Там есть где разгуляться, где поохотиться. Там более простора, более поживы. А впрочем, сказанное нами о литературах иностранных можно приблизительно применить и к нашей. Разница между ними в оттенках и во времени. Если сходство не вполне обозначается сегодня, оно может обозначиться завтра. Атмосферические токи сообщаются и переносятся повсюду с неотразимою силою. Литература наша сбивается немножко на провинциальную щеголиху, которая обновляет на себе моды, в столицах уже несколько изношенные.
Теперь возвратимся к своим рубежам, или островам (охотничье выражение). Мнение Манзони, нами вышеприведенное о переходе литературы из частной среды в общий разлив, так что уже трудно будет размежевать чресполосные угодья и обозначить столбами, где кончается литература и где начинается жизнь, или обратно, если это мнение вполне и осуществится, когда-нибудь и где-нибудь, то, во всяком случае, у нас гораздо позднее, нежели у других. На то много очевидных причин. У нас литература не слишком разнообразна и богата. Как же надеяться, чтобы она могла скоро разлиться чрез край и оросить дальние окрестности и оплодотворить новые жатвы. Жизнь наша пока еще маложизненна. Писатели наши, за редкими исключениями, не только по старым предрассудкам общества, но и по собственным предубеждениям живут чересчур особняком. По каким-то стремлениям к худо понимаемой независимости, по какой-то ложной гордости, многие из них не хотят повиноваться условиям того, что называется, и, впрочем, того, что есть в самом деле, высшим обществом. Что же выходит из этого горделивого отщепенства? Последствия прискорбные! Писатели остаются в стороне. Литература, живая сила, относится ими на второй или нередко и задний план, а потому и передают нам они наблюдения, впечатления, так сказать, из вторых и третьих рук. Пожалуй, иное иногда сказано красиво и ловко, но нет жизни, потому что между писателями и жизнью угубилась бездна. Жизнь действует, волнуется, совершенствуется, ошибается мимо тесного их горизонта. Никогда и бывают они с жизнию в одном и равном диапазоне. Ученым изыскателям таинств науки и природы удаление от шума и столкновений событий может быть благоприятно, хотя, впрочем, оно и не есть необходимо. Мы видим что Гумбольдт, утренний труженик вместе с тем и вечерний, салонный и любезнейший собеседник. Писатель светский должен и сам быть на поле действия и битвы. Он должен быть в одно время и соглядатаем и бойцом. Он должен проверять умозрения свои опытами действительности и покорять действительность исследованиям и разложению своих умозрений.
Ничего нет забавнее доктринерского высокомерия некоторых писателей наших, когда они с жалостью и презрением отзываются о легкомыслии, пустоте и недостатке нравственных начал нашего высшего, или аристократического, общества. Во-первых, хочется спросить многих из них: а вы почему это знаете? Во-вторых, просить их указать нам на этих стоиков и квакеров нашего среднего общества, которые мужеством, и доблестью, и смиренным благочестием могли бы пристыдить слабодушие и предосудительные поползновения грешников высшего общества? Где же эти литературные труженики, эти бенедиктинцы, святые отцы науки, которые посвятили себя исключительно подвижничеству мысли и слова, собрали сокровища науки и, мимо высшего общества, одни, сами собою, облагодетельствовали и просветили русский мир? Где они? Укажите, бога ради. А пока не следовало бы нам ни в каком случае забрасывать друг друга укоризнами и каменьями. Все мы более или менее грешны; но грех в высшем обществе более вежлив, благообразен, сдержан. Притворство, ханжество (hypocrisie), сказал кто-то, есть дань порока, платимая добродетели. Спасибо и за это! Загляните у нас в литературную жизнь: вы найдете те же уклонения немощи, свихнутия, что и в высшем обществе, потому что слабости и страсти людские искони те же и те же. Только в высшем кругу эти изъяны, эти пятна прикрыты аттическим блеском, смягчены аттическою вежливостью. Молодая аристократия отправляется кутить к Кулону или Дюссо; молодая русская грамотность забирается с тою же целью в трактир Палкина или в какой-нибудь «Лиссабон»[2]. Один суровый литературный раскольник пенял молодому ученику, что он пробирается в враждебный стан и поклоняется чужому знамени; что же делать, – отвечал он, – там лучше кормят, после обеда предлагают отличную сигарку, да и дамы как-то опрятнее.







