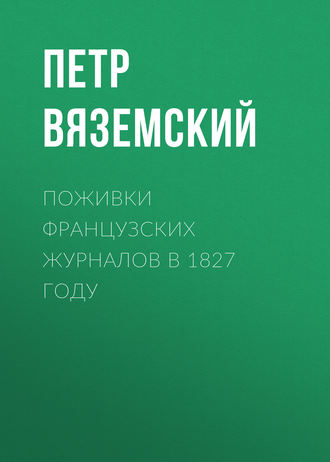
Петр Вяземский
Поживки французских журналов в 1827 году
Я журналист; мне все журнальное не чуждо.
укажу на критику «Веверлея», помещенную в 20-й книжке «Московского вестника». Что может быть наличнее В. Скотта в наше время и – что может быть отвлеченнее вступления к разбору его романа? Что может быть зыбучее и неосязательнее начертанной тут характеристики таланта и произведений писателя, который, по справедливому и весьма остроумному замечанию самого рецензента, в государстве собственно практическом избран судьбою быть практическим романистом? Изложив задачу таким превосходным и светлым образом, как же не остаться рецензенту на твердой почве рецензии практической? Зачем с нее удаляться и насильственно увлекать за собою и В. Скотта практического и русских читателей, также в своем роде практических самоучков, в дремучий бор германской метафизики? Ривароль говорил о комментариях на легкие стихотворения Вольтера, что они напоминают свинцовое клеймо, налагаемое таможенниками на дымку. В. Скотт яркий светильник положительности; рецензент, указывая на свет его, сгущает вокруг светильника чадные пары своей критической лампады. Так ли должно говорить русским читателям, когда хочешь действовать на их умы? Русский ум любит, чтобы ему было за что держаться, а не любит плавать в туманах и влажной мгле, в стихии неопределенной, в которой немцу раздолье, как рыбе в прохладной реке. У каждого народа своя стихия: зачем сверхъестественным переломом кидаться нам в чуждую? Этот способ разбирать творение, возбуждающее общее внимание и писанное про всех, хотя и был бы он употреблен с успехом, не приличен тем более, когда дело идет о В. Скотте, который дарованием, творчеством и, так сказать, всею нравственною жизнию своей действует на открытом поле и средь белого дня, а не под сумраком и засадами непроницаемого капища. Тем более способ этот не приличен в русском журнале, который должен быть в числе ручных книг читающей публики и по собственному его достоинству, которое признаю охотно во многих отношениях, и по участию в нем, хотя и постороннему, но не менее гласному, поэта, который также, подобно В. Скотту, есть преимущественно практический поэт и более всех из русских, старых и новых, совместников своих пишет прямо к своему поколению, в собственные руки.
От романиста В. Скотта перейдем к историку баронету, который изданием сочинения своего о жизни Наполеона именно в то время, когда насущная политика не владела почти безраздельно столбцами парижских журналов, был для них в числе счастливейших находок. Впрочем, сие творение, каково ни есть его собственное достоинство, и во всякое время было бы любопытнейшим явлением нашей эпохи. Наполеон, сей могущественный преобразователь, сие в течение многих лет первое действующее лицо на сцене всемирного театра, одним словом, сей В. Скотт политического мира, и В. Скотт, сей Наполеон мира литературного, были равно, каждый на поприще своем, счастливыми хищниками общего внимания, господствовали и господствуют им поныне по праву победы и соизволению общественному. Схватка – грудь с грудью и рука с рукой – сих двух гигантов нашей эпохи – зрелище увлекательное и назидательное! Хотя В. Скотт, коего сочинение пока известно нам по одним выпискам, а более по рецензиям парижских журналов, и не смог бы выдержать со славою борьбы с соперником своим, то и самое падение его, если признать достоверность падения, может быть еще почетнее и величественнее победы другого, даже не рядового бойца. Как Наполеон, так и его историк, они равно должны быть привлекательны для общего любопытства, равно предметами изучения и глубокомысленных наблюдений и под солнцем аустерлицким, и под затмением ватерлооским. Судя по рецензиям французским, главный порок нового творения есть поспешность, с которою автор собирал материалы для истории своей, не поверяя их между собою и часто в самом изложении своем не поверивши последующего с предыдущим, и вследствие всего этого – анахронизмы, исторические забвения, одним словом, отсутствие достоверности, без коей история не может иметь, так сказать, законной силы. Впрочем, сии погрешности и недостатки, хотя и весьма важные, могут быть легко при другом издании исправлены в два или три присеста. Но история, и тем более история Наполеона, писанная В. Скоттом, не может быть единственно таблицею хронологическою и памятником событий; она должна быть умозрительным зеркалом, в коем отражается оптическим соображением эпоха, более всех прочих для нас занимательная: и потому, что мы ее современники и, следовательно, более или менее соучастники; и потому, что, отлагая всякое лицеприятие в сторону, она важнейшая глава из книги судеб, скажем, пользуясь выражением одного писателя. Расположение событий таким образом, чтобы в беспристрастной симметрии одно не затмевало другого, а, напротив, освещались они взаимным ударением света и в этом преломлении лучей истины озарились бы самые сокровенные причины событий; место, приличное при каждом явлении главному лицу, которое, как должно быть в оной книге, так и в самой жизни своей, было всегда на виду у мира; изъяснение тайн характера, политики и часто странных действий его, тайн, еще не изъясненных или по крайней мере не соображенных и не приведенных в общие знаменатели, несмотря на труды многих толковников, которые более или менее наводили нас на следы, – все сие зависит от духа, от мысли первоначальной, присутствовавших при совершении труда подобной важности. Можно ли, при всей доверенности к обильным способам В. Скотта, ожидать от него – англичанина, и англичанина преданного мнениям одной партии, – совершенно бесстороннего, так сказать, наддольного исполнения предприятия столь обширного? В романисте шотландском виден гений; в бытописателе Наполеона нужен был еще ум, а это дело совершенно разное. Может быть, там, где гений его в стороне, там ум его один и не всегда надежен: в доказательство вероятности предположения приведем в пример «Письма Павла», по коим можно судить предварительно о новом творении его. Превратный, односторонний ум собьет и величайший гений, как софизмы омрачают ясный рассудок, как страсти совращают непорочную душу. Гению должно быть одному, и побеждает он только там, где может действовать начистоту; при лице ума по особенным поручениям много хитрых союзников, лукавых ласкателей: предубеждения, предрассудки политические и народные, пред коими гений отступает почтительно, полагая в смиренной простоте своей, что он не понимает их важности. Они существа ученые, светские; он создание темное, закоснелое в одном вдохновении природы. Дюкло говаривал: «глуп, как гений». В. Скотт держался этой глупости в романах своих; не поумнел ли он в истории? Если так, если он хотел написать творение не только возвышенное, но еще и благонамеренное, по мнению своему и своих, то нет сомнения, что он должен был упасть в предприятии своем. Нет сомнения и в том, что если новое творение его не превосходит многим всего, что он написал поныне, то он также упал, ибо не был наравне с предметом своим, который выше других, обработанных им. Статьи «Журнала прений» об истории Наполеона писаны с умом и с умеренностью; последнее сие достоинство, которым, впрочем, сколько можно судить почти за глаза, ознаменовано и самое творение В. Скотта, есть явление замечательное и утешительное. Вспомнив вековую неприязнь двух соседов, невольно признаются и политические старожилы, что народы стали умнее. «Журнал прений» судит об истории Наполеона по французскому переводу и, как видно из других журналов, был иногда вовлечен в заблуждение погрешностями переводчика. Например, критик «Журнала прений» нападает на историка за слово «притворился» (feint), которое в рассказе о битве Аркольской охлаждает и прозаизирует пыл и поэзию действий Бонапарте. В подлиннике нет этого прозаического притворства; там сказано просто: «Bonaparte commenced his march at first to the rear in the direction of Pschiera».







