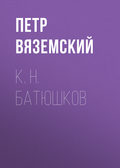Петр Вяземский
О двух статьях напечатанных в Вестнике Европы
Статьи, помещенные в 13, 14 и 19 №№ Вестника Европы, на страницах 23-39 и 183-203, заслуживают по многим отношениям особенное внимание. – В нашей словесности, где писатели на перечет, где известны приемы, замашки и так сказать почерк каждого, нетрудно угадать сочинителя по слогу, хотя под сочинением его и нет подписи. Хочу по крайней мере перед публикою похвастаться догадливостию и спешу скорее, пока не проведали[1], открыть ей, что упомянутые статьи писаны Лужницким старцем. А кто этот Лужницкий старец, о том знает тот, кому известна редакция Вестника Европы. Странно, что сей неизвестный знакомец, оскорбляя живых писателей, и между прочими г. Греча, отражающего его открыто, упорствует не объявлять своего имени и хочет еще уверить публику, что он из уважения в ней не называет себя[2]. Забавное уважение!
Статьи, напечатанные в означенных №№ Вестника Европы, могут разделиться на два разряда. Одна часть замечаний относится вообще в нашей литературе; другая собственно к книге г-на Греча. Придержимся и мы сего разделения.
Можно было надеяться, что распря за наш язык давно прекращена. Некоторые из противоборцев остались, может быть, тайно при своем мнении; но господствующее и так сказать народное литературное исповедание было у всех одинаково, за исключением, разумеется, различия дарований. Г. неизвестному знакомцу, или Г. М. И., захотелось из под пепла потухших распрей вынесть пламя древней вражды. Будем надеяться, что от покушений его он один только обожжется, но не вспыхнет новая продолжительная брань. Он не вовремя взялся за это дело. Наш век требует мыслей, а не схоластического прения о словах. Дань уважения писателю заслуженному принесена была высшим святилищем народного просвещения в глазах внимательной России. Торжественный пример благородного праводушие мог бы, кажется, образумить и пристыдить упорнейшее ослепление; но на иных людей всякой изящный пример бессилен, всякое словесное убеждение недействительно. Запоздалые во всем, они, прицепившись к одному мнению, держатся за него и тогда, когда оно уже пало и отброшено даже теми, которые его некогда поддерживали и тем придавали ему некоторую заимствованную возвышенность. Излишне было бы входить в разыскание, каким образом пишет ныне образованная Россия и ближе ли подходит сей язык к тому, который употреблял Ломоносов, или к тому, коего Карамзин дал и дает нам образцы. Где есть очевидность, тут не нужны разыскания. Остановимся на мнении, выставленном г. критиком, что Ломоносов и Карамзин, первый в предварительном образовании, другой в решительном образовании языка следовали путями совершенно противоположными. Чем он это доказывает? Двумя выписками из обоих писателей, друг другу нимало не противоречущими. Ломоносов советует писателю читать церковные книги и говорит, между прочим, что от того к общей и собственной пользе воспоследует, что будет всяк уметь разбирать высокие слова от подлых и употреблять их в приличных местах по достоинству предлагаемой материи, наблюдая равность слов. Карамзин решительно говорит, что в чтении церковных книг и светских можно собрать материальное или словесное богатство языка. Не ясно ли из сего следует, что и он почитает церковные книги частию того сокровища, из коего должен почерпать Русский писатель. Если он предлагает ему еще и другие средства в обогащению, о коих не упоминает Ломоносов (но коих между тем нигде и не отвергает): то единственно потому, что цель одного и другого была совершенно различна в составлении рассуждений, из коих заимствованы приведенные слова. Ломоносов писал о пользе книг церковных, и должен был ограничиться предметом им избранным. Карамзин, предлагая более нравственное нежели дидактическое рассуждение о том, что нужно автору, должен был неминуемо распространить свои мысли и не мог, следуя благоразумию, довольствоваться советом только читать церковные книги. Далее он говорит, что «кандидат авторства, недовольный книгами, должен закрыть их и слушать вокруг себя разговоры, чтобы совершеннее узнать язык». Выражение: «закрыть книги» не может, по совести, быть никем принято даже и в буквальном смысле за совет вовсе не читать их, ибо тут же сказано, что в книгах он найдет словесное богатство языка, следственно такое, без коего автор обойтись не может. Узнать язык совершеннее – значит познакомиться с ним короче, узнать его полнее, подробнее, и без сомнения Ломоносов не советовал никогда знать язык только отчасти и с одной стороны. Г-н М. И. видно и сам в своем возражении на ответ спохватился, чувствуя истинное значение слова совершеннее: он, вместо того, заставляет Карамзина сказать, чтобы лучше знать язык. Жаль что такие уловки не всегда удаются! Г. критику недостаточно было перетолковывать превратным образом мысли Карамзина и, для вернейшего искажения, придавать ему свои слова; он хотел еще сделать его ответчиком за мнения покойного Макарова[3]. Макаров был без сомнения писатель образованный и журналист остроумный; но совсем тем между им и Карамзиным нет никакой круговой поруки. Критик неосновательно говорит, что «Маваров пояснил еще более мысль своего наставника». Карамзин не более был наставником Маварова, как и всех прочих Русских писателей, за исключением весьма малого числа упорных приверженцов к старине, ни более наставником Макарова, как и Каченовского: различие состоит в искусстве писать, а не в языке, употребленном ими. Роман Тереза и Фальдони, напечатанный с эпиграфом из Карамзина и с предисловием от переводившего, заключающим в себе похвалы Русскому путешественнику, явно писан тем языком, который ныне вздумали называть новейшим, и если в рассуждении о старом и новом слоге не встречаем в примерах чепухи (по выражению автора) выписок из упомянутого романа, то вероятно только по той причине, что рассуждение напечатано в 1803 году, а перевод г. Каченовского в 1804. Сие последнее обстоятельство доказывает между прочим, что убеждение сочинителя рассуждения возвратиться в языку Ломоносова не весьма было убедительно над ревностным приверженцем новой школы[4]. Равно несчастлив и неоснователен г-н М. И., когда старается, вопреки очевидности, опровергнуть справедливое мнение г-на Греча, что «язык наш, пользуясь в поэзии и высоком красноречии свободою древних, может в дидактической прозе следовать словосочинению Французскому и Английскому». Кто только читал со вниманием творения наших лучших писателей, тот убежден в этой, по мнению нашему, очевидной истине. Конечно, есть и у нас, как заключает справедливо г. Давыдов в умном рассуждении своем О порядке слов, некоторое необходимое соблюдение правил в свободном словосочинении нашем. Но нет сомнения, что искусному переводчику можно в переводе древнего писателя следовать довольно верно его смелым оборотам, а в переводе, например, Английского строго придерживаться буквально философского порядка Английской прозы, как показывает нам тому пример г. Давыдов в упоминаемом Опыте. Вижу ясно как известный знакомец любовался сближением имен Тредьяковского и Карамзина.