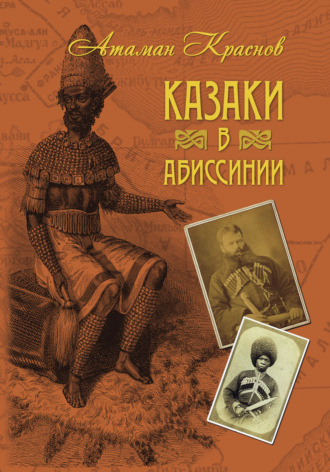
Петр Краснов
Казаки в Абиссинии
Глава II
От Одессы до Константинополя

Прощанье на пароходе – В открытом море – Впечатления качки – Босфор – Приход в Константинополь – Панорама рейда и города
19 (31) октября, воскресенье. Погода теплая, но пасмурно. С утра у парохода необыкновенное оживление: спешно догружают последние товары. Знакомые и родные приехали проводить отплывающих. На верхней палубе толкотня. Командующий войсками Одесского округа генерал-адъютант граф Мусин-Пушкин приехал проститься с посольством. Явился неизбежный фотограф, конвой построился на юте[3], сняли фотографию сначала с него, потом со своей миссии. Прощаются последний раз, дают последние поручения. Внизу на палубе происходит трогательное расставание нескольких стрелков 16-го стрелкового полка: они провожают фельдшеров своих на остров Крит. На прощание выпито было немало, и слезы текут обильно. Отъезжающий кинул свой платок остающемуся, тот бросил свой. Но и этого сердечного обмена платков им показалось мало. В последний момент, когда матросы уже взялись за поручни трапа, они бросились на него и крепко обнялись на прощанье. Вот мать целует сына, худощавая англичанка машет платком.
Помощник капитана подал свисток, сняли причалы, скинули трап, буксир прошел вперед и медленно начал вытягивать «Царя» из-за мола.
Все были наверху. Чудная панорама Одессы открывалась с палубы. Каменная галерея наверху высокого берега, статуя Ришелье, группы домов, зелень садов показались вдали, очертания начали сливаться, стушевываться, прошел еще час, и только туманная береговая полоса осталась на том месте, где была Россия.
Свежий ветер скоро согнал публику с юта. В кают-компании зазвонили к завтраку.
Когда я вышел снова на ют, ничего, кроме моря, не было видно кругом. Оно волновалось, это темное серое море, покрытое местами белыми гребнями, кидало свои волны на борт парохода и рябило без конца. Началась легкая качка. Стоишь на юте и видишь, как медленно поднимается кверху нос, потом замрет на минуту и так же осторожно начнет опускаться. Тяжелое ощущение. Приходит весельчак, фармацевт наш Б.П.Л-ов и говорит: «Самое лучшее средство, чтобы не заболеть морской болезнью, это ходить взад и вперед».
И мы ходим под руку, то подымаясь, то опускаясь, сообразно с качкой. Иногда качка заставляет нас делать непроизвольные шаги в сторону.
– Ого, покачивает, – говорит К.Н.А-и. – Смотрите, чтобы совсем не закачало.
– Это еще что, – произносит наш серьезный доктор Н.П.Б-н и смотрит в упор на вас сквозь пенсне. – Как только положат на стол скрипки – я готов. Я не выхожу больше к обеду.
Мы идем и смотрим, не кладут ли скрипки. Но обеденный стол накрыт по-обыкновенному. Перемычек, гнезд для тарелок нет. Это нас успокаивает.
– Смотрите, дельфины.
Целая стая этих морских чудовищ плыла за пароходом. Они выпрыгивали, словно по команде, из воды и потом ныряли, и долго были видны в прозрачных водах их черные спины. И вот прыжок: на минуту показалось из воды серое брюхо дельфина, и он опять ушел под воду.
Вечером пароход освещен электричеством. Темные волны видны кругом, а качка легкая, утомительная всё продолжается. Ложишься на койку и засыпаешь тяжелым сном под однообразный стук машины. Сквозь сон чувствуешь, как то поднимает, то опускает качкой голову, потом забываешься и видишь себя в России, среди всех тех, кто дорог сердцу.
20 октября (1 ноября), понедельник. Какое тяжелое пробуждение… А как было хорошо во сне. В круглый портик видно желтое небо и серые тучи над ним. Волна не убавилась. Качка продолжается. Поднимет пароход вверх, опустит и снова поднимет. Все выходят недовольные.
– Покачивает, знаете, того, – говорит Л-ов.
– Не пойти ли лечь, – отвечает К-ий. Он не выносит качки.
Голова начинает тупо болеть. Мысль перестает работать.
– Кажется, укачивает, – говорю я и спускаюсь вниз.
Вот один из казаков с зеленовато-бледным лицом нетвердой походкой прошел по палубе. Снизу, от желудка, что-то поднимается, идешь наверх, но и свежий ветер мало облегчает. За кормой бежит мутно-зеленая полоса, покрытая местами пеной, дельфины играют с боков, а там, вдали, куда только хватает глаз, видно море. Гадкое море, ужасное море! Это еще легкая качка, что же будет, когда начнет валять по-настоящему. Тоскливое чувство увеличивается. Смотришь, как мерно подымается и опускается палуба, как вылетает из-под нее бездна пены, смотришь на темно-синее море безразличным взглядом, и ничто не интересует, ничто не забавляет. Начинаешь желать смерти. Если бы пароход в это время стал тонуть, то, кажется, ни малейшего усилия не употребил бы, чтобы спастись. Спускаешься вниз, цепляясь за перила лестницы, и ложишься в каюту. Лежать легче. Наступает полное равнодушие ко всему. Время останавливается. Всё равно – утонем мы или нет, виден берег или далеко, усилилась или уменьшилась качка.
Лень встать. Одеяло лежит неловко и давит под бок, но вставать не хочется, «пускай лежит так, всё равно»…
С полным равнодушием ко всему, с самой постыдной слабостью воли я заснул, наконец, и это было самое лучшее, что мог я сделать во время качки.
Меня разбудил Ч.: «Вставайте, к Босфору подходим!..»
Я моментально вскочил. Качки как не бывало. Зеленоватая зыбь шла по неширокому проливу, с обеих сторон виднелись высокие берега. Мутно-желтая трава покрывала крутые скаты гор, виднелись постройки, стены домов вырастали прямо из воды. Вот на горе видны темно-серые развалины старинной Генуэзской крепости, с другой стороны – такие же развалины. Поломанные стены сбегают к самому морю. От этих стен когда-то протягивались поперек Босфора тяжелые цепи… Теперь страшнее всяких цепей глядят из-за низких земляных батарей большие береговые орудия. Турецкий, красный с белым полумесяцем, флаг висит над башней. Часовой в черном башлыке и накидке стоит на батарее. Напротив расположена такая же батарея. Со своими ярко-зелеными скатами, спокойными линиями фасов[4] и тупыми исходящими углами они выглядят так невинно. Если бы не эти черные пушки, не военная правильность очертаний этих ровных холмов, – их не признаешь за грозную защиту пролива.
Пароход идет мимо Константинополя. На высокой горе, ярко озаренная солнцем, покрытая бездной домов и домиков, рисуется столица Турции. Темно-зеленые изумрудные волны Босфора ласкают его берега. Масса пароходов, барж и шхун покрывает пролив. А сколько лодок! Вот под парусами идет турецкая шлюпка. Черный косой парус ровно надут, оборванные загорелые турки в красных чалмах сидят на корме, а кругом нее бездна мелких фелюг. Наша военная четверка подходит к «Царю», шлюпка агентства идет за почтой, а за ними целая стая лодок, выкрашенных в яркие цвета и посланных от отелей с гребцами, одетыми в рубища, в яркие тряпки, покрытые чалмами и непокрытые, в фесках с кисточками и в фесках без кисточек. И всё это кричит, предлагая свои услуги, выхваляя свои отели, кричит, коверкая все европейские языки, зазывая жестами, улыбаясь и кивая головами. Спустили трап, и они быстро наводнили всю палубу, хватали за рукава, тащили к себе, приглашали на французском и русском языках. Приехал один из офицеров русского стационера[5], и с ним русский посольский кавас[6] в феске, темном турецком костюме и с вызолоченной кривой саблей.
И над всей этой беспорядочной толпой шлюпок и лодок, над разноплеменными пароходами всех флагов и всех национальностей царит Константинополь. Прямо – старая часть города, Стамбул, увенчанный желтым грандиозным зданием мечети Айя-София, левее к морю спускаются сады султанских гаремов сераля. Кипарисы остроконечными вершинами выделяются над купами южных сосен, мирт и олеандров. Среди зелени видны белые постройки. Это павильоны и дома. А как красив противоположный берег Золотого Рога – Галата и Пера! Дома лезут один на другой, узкие, высокие, белые, розовые, красные, больше, впрочем, белые. Надо всем царит высокая башня Галата, многоугольная, постепенно суживающаяся. Дальше видны белые длинные постройки султанского дворца, еще далее, если смотреть к Черному морю, – невысокая башенка-скала Леандра, и далеко на горизонте, на Мраморном море, видны фиолетовые абрисы Принцевых островов.
Чудная, ни с чем не сравнимая картина!
Глава III
Константинополь

Константинополь вечером – Турецкие солдаты – Почтовые порядки – Мечеть Айя-София – Колонна Юстиниана и обелиск Феодосия – Большой базар – Новые пассажиры – Выход в Мраморное море
Константинополь столько раз описан пером гораздо более талантливым, чем мое, что я не рискую браться за описание его достопримечательностей. Расскажу только то, что я видел и как я видел. Заранее предупреждаю, что видел я весьма немного, видел только то, что угодно было толстому рыжеусому проводнику Мустафе показать мне.
Я был в Константинополе два раза – вечером 20 октября и утром 21-го.
Были сумерки, когда я вышел на набережную. Толпа народа ходила взад и вперед, оборванные старые турки сидели и стояли по бокам грязного тротуара. Перед одними из них были высокие круглые корзины, наполненные янтарным константинопольским виноградом, другие продавали какие-то жирные блины, свернутые в трубку и наполненные творогом, у третьих были круглые запеченные крендели, четвертые на маленьких деревянных табличках, положенных прямо на землю, торговали сырой рыбой, нарезанной кусочками, пятые… И не перечтешь всего, чем торговали эти кричащие, суетящиеся по всем направлениям люди. Всякий выхвалял нараспев свой товар, и их гортанные голоса, непривычные для русского уха, как-то странно его поражали. По туннелю, проведенному наискось, снизу вверх, по электрической железной дороге вы попадаете в Перу, европейскую часть города. Уже совсем темно. Редкие керосиновые фонари тускло освещают узкие грязные улицы, мощенные каменными плитками. На каждом шагу знаменитые константинопольские собаки. Они ведут себя совершенно беззастенчиво в этом городе, где их никто не тронет. Вот бурая собака со всем своим юным семейством разлеглась посреди тротуара, другие возятся на улице, не пугаясь движения. Пешеходы, их большинство, заняли всю улицу. Сквозь толпу пробираются извозчики с колясками, запряженными парами лошадей в английской сбруе. Зеленые конки, пронзительно трубя, тянутся по рельсам. На углах стоят турки с невысокими лошадьми, оседланными английской сбруей и замундштученными. Лошади эти заменяют наших извозчиков.
Турецкий кавалерийский разъезд проехал по городу. Лошади в довольно хороших телах, но люди грязно одеты и посадка разнообразна. Вообще встречавшиеся со мной турецкие солдаты и офицеры не имели особенно воинственного вида. Часовые, которых я видел и у таможни, и у гауптвахт на улицах, и у патронного погреба, стояли, небрежно опершись на ружья, разговаривали с проходящими, горбились и держали оружие как попало. Длинные брюки турецких солдат висели, далеко не доходя до сапог, напоминая иных мальчиков, выросших из штанов, доставшихся им, вероятно, от старшего брата. Лица турецких солдат – по большей части выразительные и красивые.
Поздней ночью спускался я по улице к набережной. Лил проливной дождь. В ярко освещенные окна бесконечных кофеен видны были турки, за мраморными столами ожесточенно игравшие в карты. Ассигнации, большие серебряные меджидие[7] и маленькие талеры переходили быстро от одного к другому. Шла азартная игра.
На главную улицу выходили узкие темные переулки. И как легко тут заблудиться! Вот арена для уличных драк, для всевозможных волнений и пропаганд.
Босфор заснул. Сопровождавший меня кавас вызвал шлюпку, и мы поплыли по Золотому Рогу. Всюду видны были огни судов и лодок. На пароходе работа не прекращалась. Лебедка скрипела вовсю. Две баржи стояли у причала и при свете электрических фонарей разгружались. Люди в красных фесках ходили по палубе.
21 октября (2 ноября). Проснувшись, я первым делом взглянул на портик. Желтые волны мягко плескались о борт парохода. Горизонт золотистого цвета местами был затянут темными тучами, погода могла разгуляться, но могла также разрешиться дождем. Мустафа, в своем черном пиджаке и темно-красной феске, уже ожидал меня на палубе. Я прошел к конвою, поздоровался с людьми, поздравил их с праздником восшествия на престол Государя Императора и вызвал желающих на берег; желающими оказались все. Кинули жребий – семерым остаться, а с остальными на двух шлюпках я высадился на константинопольской набережной. Паспортные формальности оказались очень просты. Я записал наши фамилии и передал чиновнику в феске.
– Москов ашкер[8], – сказал он солдату, стоявшему у железной решетки.
– Vous etes un offigier rusee? – спросил он меня.
– Oui, monsieur[9].
И мы толпой прошли между двух турецких солдат и очутились на грязной набережной.
Мне нужно было получить письма из России. Письма из России получаются, сказали мне на русской почте, в агентстве пароходства. Я отправился в агентство, но там писем не было.
– Может быть, ваши письма шли через Вену, тогда вы найдете их на австрийской почте, – утешил меня агент.
По кривым улицам, на которых толпились люди в фесках, пробрался я к зданию австрийской почтовой конторы.
– Есть письма на имя К.?
Немец строго посмотрел на меня, перебрал маленькую пачку писем, еще строже взглянул и сказал:
– Вам писем нет.
– Быть может, они на главном почтамте, – сказал я проводнику.
– О нет, это невозможно, все русские письма на русской почте.
Но тем не менее я пошел и на главный почтамт. Там тоже писем не нашли. А между тем письма были, я в этом уверен.
Где же получают письма в этом разноязычном городе, где столько почтамтов, сколько национальностей, в нем проживающих, и где ни один из них не отвечает за правильную доставку писем?
– Значит, не было писем, – хладнокровно замечает Мустафа и тянет меня вперед.
По узкой улице, мощенной плитняком, по которой взад и вперед ходят турки и европейцы, ездят коляски, запряженные парами маленьких тощих лошадей, торопливо проходят ослики, с обеих сторон нагруженные громадными корзинами с разной мелочью, мы выбрались к мосту. Высокие турки в длинных белых балахонах преградили нам дорогу.
– Надо платить две копейки, – объяснил нам Мустафа и побежал к грязному деревянному павильону, где сидели сборщики податей.
Деньги уплачены, нас пропускают через мост. Мост страшно грязный. Толстые неровные доски покрывают его. Нога скользит по липкой грязи. И пешеходное движение по нему громадное. Все идут куда-то озабоченные, встревоженные, торопливые. Солдат в грязных серых суконных панталонах с красными лампасами и в рваных ботинках бредет через мост.
Выправка неважная, руки болтаются без толка, синяя шинель надета как попало, штык висит небрежно сбоку, вид весьма непредставительный. По мосту мы попали в старую часть города – Стамбул.
Узкие кривые улицы подымались кверху. Вот показались желтые стены мечети Айя-София, мы повернули в ворота и вошли во двор мечети, где картинно росли у магометанских умывальниц олеандры и мирты. Заплатив по полмеджидие за вход, мы поднимаемся по спиральной наклонной площади, мощенной брусками, на хоры мечети.
Когда Мехмет (Магомет) II взял Константинополь, повествует нам Мустафа, он въехал верхом по этому ходу на хоры и смотрел отсюда на резню в храме.
Маленькие глаза Мустафы при этом улыбаются, он совершенно входит в роль гида и продолжает пояснения безапелляционным тоном, путая события, действительно случившиеся, с событиями, созданными народной фантазией.
– Вот здесь, – говорит он, останавливаясь на хорах, – был алтарь. Когда турки ворвались в собор, епископ, служивший обедню, заперся за царскими вратами, и турки заложили ему каменьями выход…
Казаки со страхом смотрят на следы двери, и все снимают фуражки.
– Всё-таки, братцы, храм этот был наш, – говорит толстяк Недодаев, как бы оправдываясь перед товарищами.
– Теперь посмотрим общий вид. – И Мустафа ведет всё общество по хорам на середину.
Внизу под нами громадное пространство. Пол устлан циновками, и циновки эти, протянутые косо по храму, перекашивают пол в одну сторону. На высоких колоннах висят большие щиты, грубо сделанные из дерева, с золотыми буквами по синему полю. Эти священные изречения из Корана – точь-в-точь вывески «Торгового дома Цзин-Лунь» в Петербурге. В глубине мечети, прямо против нас, мозаичные изображения шестикрылых серафимов. Лица ангелов заклеены звездами.
Долго стою я и смотрю на обширную площадь мечети, расстилающуюся у моих ног. Один громадный купол царит над нею. На золотой мозаике этого купола еще виден Господь Бог, распростерший свои руки над молящимся народом. Штукатурка не стерла следы его лица, рук и хитона.
Дальше, на хорах, могила властителя Византии венецианского дожа Дандоло и подле нее следы прядильного станка, за которым день и ночь ткала безутешная дочь Константина Великого.
Лицо Мустафы при сообщении всех этих подробностей выражает величайшее наслаждение.
– Я не простой гид, – самодовольно говорит он. – Я знаком немного с историей, я могу всё пояснить исторически.
С хоров мы спускаемся вниз. На паперти происходит скучная пригонка туфель на большие казачьи сапоги, и, шлепая ими, мы входим в старинный храм. Вот красные колонны, окованные железными обручами, по преданию, перевезенные из Соломонова храма, вот неподалеку от входа, на высоте трех сажен, след от руки и зарубка мечом: следы того же Магомета II. Он въехал верхом во храм, поднялся по крутой горе убитых и раненых на эту высоту и, омочивши левую руку свою в крови неверных, приложил ее к колонне, а потом правою мечом засек ее.
Страшные, кровавые страницы истории древней Византии встают предо мною, когда я гляжу на этот белый след ладони на темно-красном камне колонны.
…Всё утро молились греки у престола Святой Софии. Несколько раз выходил патриарх со святыми дарами благословить народ. То и дело прибегали гонцы с городских стен, повествуя о победе турок. И вот они ворвались в столицу. Ни цепи Босфора, ни стены укреплений их не остановили. Широким потоком, неся за собою смерть, разлились они по тесным улицам Византии и наконец ворвались в храм. Ни мольбы о пощаде, ни покорность судьбе, ни борьба на жизнь и смерть не могли спасти от турецкого ятагана. Женщины и дети пали первыми на каменные плиты святого храма. По ним пробирались храбрые защитники, но они гибли от ударов ножей и копий. Груда тел росла у входа. Не все тут были мертвые. Часть еще дышала. С перебитыми членами, изуродованные, копошились они в общей куче трупов…Иные с мольбою просили о пощаде, другие запекшимися устами своими посылали врагам проклятия. И вдруг раздались звуки труб, загремели литавры. На чудном белом коне, с золотым набором, под расшитым богатым вальтрапом, сопровождаемый отборным своим войском, въехал Мехмет-Али, повелитель правоверных. Гора тел поднималась перед ним – тем лучше! И благородный конь бережно ступает копытами своими по телам византийцев. Трещат черепа женщин и детей под его твердыми копытами, стонут и скрежещут раненые, но звуки литавр и труб заглушают их. И гордо озирается с полуживого пьедестала своего повелитель правоверных!
Это ли не торжество победителя!
Со стесненным сердцем покидал я мечеть Айя-София. Всюду грязь. Тусклая позолота мозаики, местами выбитой не то генуэзцами во время их пиратских набегов, не то просвещенными путешественниками, любителями коллекционировать древние вещи, пыльные стены, грязные щиты со священными изречениями Корана, – всё это так жалко для столь громадного храма.
В углу ученик муллы нараспев читал свои молитвы, стоя на коленях перед маленькой скамеечкой с книгой. Он приподнял было голову при нашем приближении и потом снова загнусил: «Ла Алла, иль Алла!..»
Погода отвечала настроению. Моросил мелкий дождик. Холодный ветер свистал по улицам, Мустафа распустил свой громадный зонтик и при этом не преминул сообщить, что зонтик этот он купил за два с половиной франка.
Под дождем мы прошли к старым казармам янычар и на площади их полюбовались на обелиск Феодосия и змея Юстиниана.
Большая неровная площадь. Местами она мощена каменными плитками, местами грязное, глинистое шоссе пролегает по ней. Посередине несимметрично стоят две колонны. Одна – темного гранита обелиск на мраморном фундаменте, другая – бронзовый змей, позеленевший от времени, с отбитыми тремя головами. Под обелиском расположены барельефы, изображающие постановку его на пьедестал. Феодосий со свитой сидит на возвышении и смотрит, как тысячи рабочих тянут веревки колонны. С другой стороны изображена раздача хлеба рабочим, далее раздача им жалованья и, наконец, празднества по случаю окончания работ.
Всё это было здесь давно, в те времена, когда боролись цирковые партии, когда знатные византийцы бродили по этой площади.
Турецкий солдат подозрительно смотрел теперь на группу казаков, живописно расположившуюся вокруг колонны. Сама колонна на проливном дожде выглядела такой грустной, грязной, заброшенной. Дальше, дальше от этих памятников прежнего величия, дальше от этих трупов славной Византии.
По довольно широкой улице, обсаженной белыми акациями, прошли мы мимо гроба Мехмета к зданию сераскирата[10] и казначейства. Это единственные постройки, перед которыми есть достаточно простора, которые не стеснены, не задушены грязными домиками и домишками. Всё в Константинополе лепится одно к одному, без промежутка, без двора, без лишнего переулка. И если уже где случайно образовался переулок, то он такой узкий, что две кареты в нем не разъедутся. Кривой линией между двух тесно сдвинувшихся рядов домов почти без окон вьется он, чтобы упереться в другой такой же переулок и образовать с ним глухой темный лабиринт. Мало света, мало простора.
Здесь же с самой площади вошли мы на большой константинопольский базар. Это старые конюшни Юстиниана. Они теперь реставрированы, то есть заново оштукатурены и выкрашены грубой синей краской по широким панелям.
Какая пестрота одежд! Какой шум и крик на всех языках, но преимущественно на гортанном турецком. Маленькие лавчонки тесно сбились одна к другой. Куда нашей толкучке – далеко! Тут продают материи, далее табак, рахат-лукум, туфли, тут же на железных вертелах над раскаленными угольями жарят шашлык, там едят какую-то густую крахмаловидную молочную массу, наложенную в чашки, торгуют оружием, готовым платьем, кожей, расшитой золотом.
Толпа народа идет туда и сюда. Негры, арабы, турки в красных чалмах, бедуины в белых плащах, европейцы, греки в юбочках и опять турки. Молодые, статные, черноусые, красивые и старые, беззубые, с клочковатой седой бородой, с тюрбаном на голове, с большим красным носом. Среди этой суетливой мужской толпы редко-редко где попадалась женщина. Простые, одеты, как наши монашенки, с черными платками на головах, с лицами, завязанными темной кисеей. Дамы высшего общества ограничивались только тем, что закутывали белой кисеей подбородок и нос, оставляя глаза открытыми. Тупо и покорно смотрели эти глаза, опушенные длинными черными ресницами, из матового фона лица. То и дело сквозь толпу шагали маленькие ослики, нагруженные громадными корзинами, они сами пробирались через народ, никого не задевая.
Узкая улица – коридор рынка – спускалась ниже и ниже, давая местами разветвления в разные стороны, путаясь в тесном лабиринте. Дождь продолжал хлестать, промачивая белые фуражки и желтые куртки казаков; зонтики запрудили улицу. Голова болела от этого непрерывного гама, от толкотни и пестроты костюмов и лиц.
Наконец мы спустились к мосту, снова заплатили пеню за переход по липкой грязи мокрых досок и вышли на пристань.
Чудный Золотой Рог шел вправо и влево. Желтые воды его чуть волновались. Масса шлюпок, парусных и гребных, скользила по нему. И как они только не сталкивались в тесном заливе – одному Аллаху известно!
В три часа «Царь», буксируемый маленьким портовым пароходом, медленно стал вытягиваться из Золотого Рога.
В первом классе много новых пассажиров. Египетская принцесса Назла Ханум, сестра жены вице-короля Египта хедива[11] с маленьким сыном, наследником египетского престола, прехорошеньким мальчиком с длинными вьющимися белокурыми волосами и громадными черными глазами, сопровождаемая двумя горничными и тремя евнухами, отвратительными неграми с громадными губами, приплюснутыми носами и тупой физиономией, стоит на юте, возбуждая всеобщее внимание.
Она некрасива, но эффектна. Высокого роста, широкоплечая, полная, с нежным восковым цветом лица, большими черными глазами и красно-рыжими волосами, с лицом, едва закутанным легкой кисейной чадрой, в темном бархатном пальто, опушенном мехом, стояла она у перил и смотрела на изящный паровой катер, привезший ее к пароходу. В катере, на ковре, сидели двое турок и турецкая дама.
Принцесса махала им платком и, казалось, плакала.
«Царь» прибавил ходу, турецкий катер отстал, пронзительно свистнул и понесся к Босфору – мы медленно стали выходить в Мраморное море.
Волшебная панорама открывалась по обеим сторонам и замыкала декорацию сзади. Сквозь обрывки туч выглянуло южное яркое солнце. Зеленые волны Босфора сливались с желтыми водами Золотого Рога, действительно золотого. Шлюпки носились по всем направлениям. Справа по холму подымались зеленые кипарисы, тенистые сосны, олеандры, мирты и лимоны, и среди их нежной зелени виднелись белые постройки султанского сераля. Слева гора домов. Они громоздились друг на друга, подымались выше и выше, образуя непривычную для жителя равнин панораму средиземноморского города. Сзади, красивый своими изящными европейскими линиями, тянулся над самой водой дворец султана, совсем на воде белела башня Леандра. А вдали на Мраморном море, расплываясь в прозрачной атмосфере, вырисовывались фиолетовые очертания высоких Принцевых островов.
Все пассажиры на юте. Долго все смотрят и любуются на постепенно удаляющуюся панораму Константинополя, на домики и мечети, которые становятся меньше и меньше и, наконец, сливаются в общее белое пятно.
Море становится синее. Ближайшие волны принимают цвет ультрамарина. По обеим сторонам еще видна земля. Мы держимся ближе к европейскому берегу. По низким буро-зеленым холмам раскинулась деревня, дальше опять потянулся мутный берег и скрылся наконец на далеком горизонте.
Волны с легким ропотом разбиваются о крутые борта «Царя», начинается мерное колыхание его длинного корпуса.







