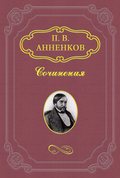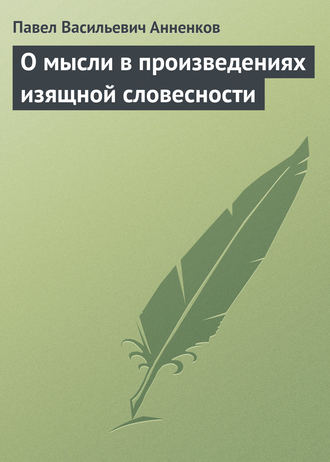
Павел Анненков
О мысли в произведениях изящной словесности
Мы приведены к необходимости сказать несколько слов о сущности мыслей, доступных рассказу вообще, и это не потому, чтобы хотели отвечать на какие-либо системы и теории, а потому что запрос на мысль постоянно слышится в самом обществе, как мы имели много случаев убедиться. При всяком появлении замечательного произведения раздаются в публике восклицания вроде: это хорошо, но какая тут мысль и сколько тут мысли? Отыскивать причину такого упорного требования мысли в деле искусства было бы слишком долго, но заметим, что от молодых, начинающих литераторов общество, которое по годам ровесник литературы, ждет преимущественно поучения, а эстетическая форма, обилие фантазии и красота образов стоят уже на втором плане при оценке произведений. Постоянные хлопоты о мысли, которыми занята не одна публика, но и критика, сообщают педагогический характер изящной литературе вообще, как это мы видим не только в нашем прошлом, но и в нашем настоящем. С одной стороны, круг действия литературы от этого, может быть, и расширяется, но, с другой, он утрачивает большую часть самых дорогих и существенных качеств своих – свежесть понимания явлений, простодушие во взгляде на предметы, смелость обращения с ними. Там, где определяется относительное достоинство произведения по количеству мысли и ценность его по весу и качеству идеи, там редко является близкое созерцание природы и характеров, а всегда почти философствование и некоторое лукавство. Не говорим уже о том, что на основании мысли легко быть судьею литературного произведения всякому, кто признает в себе мысли (кто же не признает их в себе), а на основании эстетических условий это тяжелее. Не говорим также, что по существу критик, ищущих предпочтительно мысли, вся лучшая сторона произведения, именно его постройка, остается почти всегда без оценки и определения, но скажем, что обыкновенно и не тех мыслей требуют от искусства, какие оно призвано и способно распространять в своей сфере. Под видом наблюдения за значением и внутренним достоинством произведения большею частию предъявляют требования не на художническую мысль, а на мысль или философскую, или педагогическую. С такого рода мыслями искусство никогда иметь дела не может, да они же много способствуют и к смешению всех понятий о нем. Известно, что каждый из отделов изящного имеет свой круг, свой цикл идей, нисколько не сходных с идеями, какие может производить до бесконечности способность рассуждения вообще. Так, есть музыкальная, скульптурная, архитектурная, а также и литературная мысль. Все они обладают качествами полной самостоятельности и не могут быть перенесены из одного отдела в другой без того, чтоб в ту же минуту перемещенная мысль не сделалась вместо истины, какою была на своем месте, парадоксом и чудовищностию на другом. Даже подразделение родов еще обладает своим особенным кругом идей, равно не способных к передвижению и подмену. Вот почему никогда нельзя составить из хорошей повести какую-либо порядочную драму и, наоборот, переложить хорошую драму в изящную повесть, чему поучительный пример мы имеем в «Анжело» Пушкина[5]. Само собой разумеется, что полный замен идеи какого-либо отдела идеей посторонней, чуждой ему, как бы она в сущности ни была глубока и почтенна, уже ничего произвести не может, кроме умствования без цели в критике и ложного произведения без жизни в создании. Нас спросят: какого же рода цикл идей принадлежит повествованию и в чем состоит сущность его? Ответ не затруднителен. Развитие психологических сторон лица или многих лиц составляет основную идею всякого повествования, которое почерпает жизнь и силу в наблюдении душевных оттенков, тонких характерных отличий, игры бесчисленных волнений человеческого нравственного существа в соприкосновении его с другими людьми. Никакой другой «мысли» не может дать повествование и не обязано к тому, будь сказано не во гнев фантастическим искателям мыслей. Где есть в рассказе присутствие психического факта и верное развитие его, там уже есть настоящая и глубокая мысль. Всякому, разумеется, дозволено находить при случае, что психическое положение рассказа или малозначительно, или избито, или, наконец, объяснено слишком поверхностно (это часто так и бывает), но вряд ли дозволено делать рассказ проводником эфических или иных соображений и по важности последних судить о нем. Ошибка тем страннее, что по связи всякого лица с эпохой, в которой оно живет, хороший рассказ, не покидая своей скромной сферы, уже сам по себе способен иметь и совершенно художественное и совершенно современное достоинство, отвечать всем требованиям творчества и требованиям образованности, но эта сторона его не может иметь ясности математической; и нужен взгляд критика, чтобы открыть ее. Взамен, если повествование основано на чистой мысли, но выраженной, как всегда выражается такая мысль, посредством невозможного или противуэстетического душевного настроения, то мысль уже не спасет рассказа, как бы сама по себе ни была светла и благородна. Произведение останется все-таки плохим, впечатление, производимое им, будет слабо и влияние совершенно ничтожно. Все это, повторяем, решились мы сказать, имея в виду некоторую часть публики нашей, которая беспрестанно занята вопросом: есть ли тут мысль и насколько тут мысли?