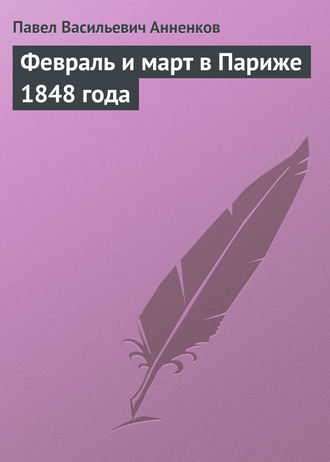
Павел Анненков
Февраль и март в Париже 1848 года
Национальная гвардия сделала при этом непостижимую политическую ошибку. Начать с того, что она выходила на площадь без призыва, в числе тысяч десяти, которое журнал «La Presse» смело возвел до 25 тысяч. Простее, а главное – законнее было бы послать от себя депутацию к правительству, с выражением своих опасений. Тогда не нужно было бы принимать и мер против собственного увлечения – приказывать чинам национальной гвардии являться в их штабы, в мундирах, но без оружия. Несмотря на эту предосторожность, движение все-таки имело вид бунта, и противоречило собственным любимым учениям этой партии о порядке. (Национальная гвардия, скажем мимоходом, устроила свой собственный: клуб на Boulevard Monmartre[60] и положила основание новому органу своих интересов в печати журналу «l'Ordre»{70}, жившему, однако, очень недолго.) Затем она имела неосторожность примешать к политической манифестации еще и домашнее свое дело. Декретом от 14 марта Ледрю-Роллен. уничтожил образцовые роты национальной гвардии (compagnies d'élite), именно гренадеров, с их меховыми шапками, волтижеров с уланскими касками и с богатым костюмом, отличавшим тех и других от прочего войска. Министр указал разместить их по разным батальонам, где они обязывались, вместе со всеми, участвовать в выборе офицеров и начальников. Оскорбленные роты избранников подбили своих товарищей просить заодно у правительства и восстановления прежних кадров, под тем Предлогом, что прежние гренадеры и волтижеры не могут теперь с толком участвовать в выборах, так как в батальонах, куда их запрятали, все было им незнакомо. Таким образом, вопрос о свободе выборов сплелся с мелочным и личным делом, которым вдобавок оскорблялось самое живое народное чувство в эту минуту – чувство равенства. Народ не замедлил окрестить всю протестацию шуточным прозвищем «протестации меховых шапок», мало обращая внимания на печатное объявление гренадер и волтижеров, в котором они торжественно отказывались от всех наружных знаков отличия. Шутовское прозвище, данное этому движению, осталось за ним и в истории: Protestation des bonnets de poil.
Народ не ограничился, однако, одной шуткой. В четверг, 16-го марта, в 12 часов пополудни, я встретил на бульваре Madeleine часть легионов национальной гвардии, направлявшихся через площадь к Ратуше в полном военном порядке, что доказывало, между прочим, участие штабов (мэрий) в организации заговора. Они шли рука к руке, в мундирах, без оружия, молчаливо и важно. На набережной Сены, почти перед самою площадью Hôtel de Ville[61], их встретил новый их начальник, республиканский генерал Курте, прося и приказывая разойтись в объявляя их демонстрацию бунтом. Произошла скандальёзная сцена; первые легионы не послушались и продолжали шествие, но на самой площади народ встретил их свистом и каменьями, не допуская к Ратуше. Между тем на набережной, после бесполезных увещаний того же Курте, народ принял дело на себя, загородил дорогу остальным подходившим легионам и стал делать баррикады под носом бунтовщиков в мундирах, как он назвал гвардейцев: группа народа состояла, говорят, только из 100 или 150 человек. Легионы, в числе которых было множество людей, получивших приказание на сбор из штабов и повиновавшихся ему, не зная хорошенько в чем дело, разошлись со всеми заготовленными депутациями. Они не ожидали сопротивления, а начинать попытку новой революции совсем не было у них ввиду. То же сделали легионы, уже добравшиеся до площади и встреченные там народом. Кое-каким депутациям (от каждого легиона было заготовлено по одной) удалось разрозненно и без всякой связи представиться правительству и выслушать довольно строгий выговор Мараста, чем они и должны были удовольствоваться.
Однако одушевление Парижа в наступивший вечер было неимоверное. Так как по всем расчетам следовало ожидать, что республиканская партия захочет ответить на вызов консерваторов своею собственною манифестацией, то я и направился в клуб Бланки, который помещался в здании знаменитой музыкальной консерватории Парижа. Сцена консерватории, освещенная пятью или шестью свечами, походила на темное подземелье и весьма мало напоминала блестящую залу европейских концертов. В большой люстре горело несколько ламп, ложи были заняты людьми в блузах и женщинами из народа. В партер пускали или по билетам, или за плату одного франка при входе. Я поместился в партере. Бланки еще не было, председательствовал какой-то старичок. Один господин, с бледным лицом и черноволосый, стоял впереди и говорил с невообразимым жаром: «Консерваторы, роялисты, мещане сделали демонстрацию… надобно спасти их. Sauvons les, messieurs, sauvons les![62] Сделаем сильную народную демонстрацию, чтоб отбить у них всякую охоту мешаться не в свое дело на будущее время. Sauvons les (и он страшно махал при этом руками) для их почтенных жен, умирающих от страха». Раздались яростные рукоплескания и хохот. Едва они затихли, как неожиданно послышались в разных местах залы свистки. Кто-то свистит на самой сцене. Президент встает и говорит: «Разрешаю публике самой произвести суд и расправу над свистком. Близстоящие люди имеют право изгнать свистуна». Голос: «Подле вас свистят»… Голоса на сцене: «Вот кто свистит». Президент, обращаясь к группе народа и свистуну: «Если вы имеете что возразить на мнение оратора, я вам даю слово». Голоса: «á la tribune, á la tribune!»[63] Свисток внезапно скрывается. Шум. Президент стучит что есть мочи молотком по столу. Выходит другой черный человек (мне сказали – г. Ипполит Боннелье, бывший актер в Одеоне) и с страшною быстротой произносит: «Citoyens. La conduite de M. Lamartine dans l'affaire de la circulaire est déplorable. (Граждане! Поведение г. Ламартина в деле циркуляра самое плачевное.) Голоса: «oh, oh!» «oui, oui!», «non, non!»[64] Возле меня один раскрасневшийся слушатель, в каком-то состоянии упоения зрелищем, сперва кричит oui, а потом, переговорив с соседом, кричит non. Президент стучит, оратор после оговорки в пользу Ламартина продолжает: «но нам надобно утешить добродетельного Ледрю-Роллена во всех огорчениях, которые он, вероятно, испытал на бескорыстной службе республике». При этом подражании фразеологии клубов 93 года раздается браво со всех сторон. Затем выходит другой господин и говорит: «какой бы прием ни сделала мне публика, но честь заставляет меня сказать, что я не одобряю циркуляра г. Роллена». Ужасный шум; крики: «à bas!» сменяющиеся криками: «parlez!»[65] Оратор становится под покровительство президента. Мой сосед кричит страшным образом à bas, но когда президент удерживает слово за оратором, также страшно кричит: parlez, бросая вокруг себя дикие взгляды. Между тем оратор уже успел сконфузиться: «я истинный республиканец и в некоторой степени совершенно понимаю циркуляр». (Хохот.) Наконец, является Бланки, человек небольшого роста, с седыми, коротко остриженными волосами, широким и костистым лицом, – похожим на адамову голову{71}. Свет шандалов придает ему синеватый оттенок. Хриплым и отчасти визгливым голосом Бланки сообщает собранию, что на другой день назначена к правительству депутация от всех ремесел и от всех клубов, для заявления ему готовности народа защищать его от всех попыток возмущения, составляемых враждебными партиями. Он присовокупляет к этому, что вместе с заявлением верности положено просить правительство: 1) не впускать военных сил в Париж; 2) отложить выборы национальной гвардии до 5 мая; 3) отложить выборы в Национальное собрание до 31 мая. Раздается сильный голос сверху, при последнем параграфе: «Vous voulez la perte du pays!» (Вы хотите погибели отечеству.) Все расходятся в неописанном волнении…
Дело в том, что во все время республики клубы не имели никакого значения сами по себе. Они дали только средства предводителю партии завести строгую дисциплину в рядах толпы и направлять ее по своему усмотрению. Пример этой военной организации клубов представила манифестация 17-го марта. Клубы Барбеса и Бланки, переговорив с клубом журнала «la Réforme» и с префектом Коссидьером, выставили в этот день совершенно организованную армию работников в 50 тысяч человек. Как только клубы принимались за публичное обсуждение дел и нужд, выходила страшная и вместе страстная чепуха. Малая привычка общества к политической жизни обнаруживалась тотчас же. Заседания клубов пробавлялись повторением журнальных статей, нелепым подражанием клубам 93 года, а иногда и дракой, как это случилось однажды в самом клубе Бланки. Только общество икарийца Кабе отличалось приличием и порядком своих заседаний, но это потому, что в нем почти всегда один человек и говорил – сам Кабе. Иностранные клубы соперничали с туземными в неурядице и анархии. Кстати рассказать в виде pendant[66] к сцене, только что описанной нами, заседание немецкого «демократического общества»{72}, на котором мне случилось присутствовать. Общество это под председательством поэта Гервега, собралось для прочтения и одобрения поздравительного адреса от немецкого народа к французскому, составленного особенною комиссией из членов клуба. Заседание началось, во-первых, предлинным кантом песенников, помещенных на хорах, что с первого раза придало ему как бы характер мессы. Потом, едва Гервег уселся в кресла и разинул рот, как известный Венедей, впоследствии депутат во франкфуртском парламенте{73}, заготовивший свой собственный адрес, стал свистеть… Шум поднялся страшный: «Да дайте же прочесть сперва адрес комиссии». Адрес прочли, восторженное «браво». Венедей прочел свой адрес, опять восторженное «браво»[67]. Один господин кричит президенту: «я убью тебя». У Гервега колокольчик ломается в руках: он начинает беситься и старается победить шум. Не тут-то было. Встает высокий господин и начинает бранить собственную нацию. «Мы, – говорит, – немецкие медведи, еще смеем толковать о свободе отечества, когда не умеем вести себя прилично в собрании и притом еще на чужой стороне». Снова восторженное «браво». Выбор адреса, однакож, нисколько не подвигался. Гервег прибегает к простому способу добиться решения общества: он просит приверженцев адреса комиссии поднять руки – огромное количество рук поднимается; просит сделать то же самое сторонников Венедея – и почти одинаковое количество рук поднимается за Венедея. Наконец, Гервег останавливается на последней, решительной мере: он приказывает именно людям одного адреса пойти в левую сторону, а людям другого в правую. Так как человеку нельзя раздвоиться физически, то можно было ожидать какого-нибудь результата: толпа поколебалась и почему-то шарахнулась в правую сторону. Адрес комиссии восторжествовал. После этого чартист Джонс{74}, нарочно приехавший из Англии для этого заседания, произнес по-немецки речь со смыслом и чувством, в которой, между прочим, говорил: «Теперь я вижу, как далеки еще вы, дети Германии, до единодушия, которое одно в состоянии упрочить вам свободу. Всякий раз, как увидят иностранные посольства разногласие между вами, они будут писать в свои земли: не бойтесь здешних немцев, они не страшны, они еще не соединились. Мы, чартисты, тем и сильны, что мыслим и действуем, как один человек, и нас до трех миллионов»… Этот сухой, рыжий великан, с иностранным произношением, но совершенно развязный на трибуне, как и следует истому англичанину, произвел на немцев сильное впечатление. Впрочем, заметим, что единодушие чартистов и почтенная цифра их, выставленная Джонсом, не помешали Лондону рассеять всю эту партию в один день{75}, как только она показалась на улице. Путаница сопровождала и все последующие заседания «Демократического клуба». Гервег, сам смеявшийся над малым политическим образованием своих соотечественников, рассказывал, что на одном из этих собраний какой-то маленький, приземистый работник, из коммунистов, в порыве восторга отпустил следующую фразу: «Wir wollen ailes vernichten, was nicht auf der Erde ist» (Мы хотим все уничтожить, чего только нет на земле.) Но нелепость нелепостью, а из Немецкого демократического общества, таким образом составленного, вышло вторжение французских немцев в Баден с оружием в руках{76}, а из безалаберных заседаний, подобных виденному нами в музыкальной консерватории, родилось огромное народное движение, к которому теперь и обращаемся.
На другой день, рано утром, Париж узнал программу предстоявшего ему зрелища. Так как демонстрация национальной гвардии была направлена в пользу Ламартина и против Ледрю-Роллена, то новая демонстрация работников и народных классов общества должна была принять обратный характер, то есть выразить осуждение Ламартина и одобрение Ледрю-Роллена. Вдобавок, первая демонстрация старалась отличиться важностью, спокойствием и порядком; определено было придать то же качество и новой. Первая шла в рядах, положено было тоже идти в рядах; первая была без оружия, положено выйти без оружия; только вместо десяти или двенадцати тысяч человек первой, решено было собрать тысяч сто для второй. Начальники распустили нарочно слух, что на улицах Парижа появится двести тысяч, между тем как и стотысячное число – преувеличение; судя на глаз, вряд ли было и наполовину этого на площади. Мы думаем, что и эта цифра все еще достаточна для удовлетворения клубного или народного самолюбия. Начальники обществ и выборные от ремесел приготовлялись к этой демонстрации уже давно, с первых минут волнения, произведенного Ледрю-Ролленовским циркуляром. Участию Коссидьера и его многочисленных, хорошо выправленных агентов обязано все это огромное шествие тем строгим военным порядком, который в нем царствовал…
И вот, 17-го марта, в полдень, Париж увидел новое, истинно необыкновенное зрелище. Около двенадцати часов массы народа, в блузах и сюртуках, с знаменами цехов, корпораций и обществ, потянулись правильными рядами из Елисейских полей, где был сбор, к Ратуше. Мне посчастливилось видеть одну отдельную группу из этой процессии на площади Пале-Рояля, крайне любопытную, от которой впоследствии многие из вождей отказывались, называя рассказы о ней пустою выдумкой. Толпа эта, разбитая на отряды, несла заступы, колья, ломы, лопаты, все инструменты для сооружения баррикад, а посреди ее, тоже в отрядах, несколько стариков толкали перед собой пустые тележки, употребляемые обыкновенно для перевозки камней и земли на насыпи; словом, то были олицетворенные баррикады, явившиеся к правительству на смотр! Цельная сплошная масса тянулась, однакож, в это время по набережной Сены, к Ратуше, отворяя на пути все лавки, которые запирались при ее приближении, усовещая хозяев и даже растолковывая им, что дело идет не о грабеже. Из рядов неслись крики: «vive les boutiques ouvertes!»[68] Устроители движения имели предосторожность предписывать участникам взаимную полицию друг над другом. В час пополудни площадь перед Ратушей была загромождена народом, стройно стоявшим вокруг нее, с своими знаменами и значками, в числе которых находилось знамя при депутации ирландских семинаристов, здесь воспитывающихся. Остальные стояли по набережной. Крики: «Vive Ledru-Rollin, vive, circulaire révolutionnaire»[69] не умолкали. Множество эпизодов в этой массе делали ее каким-то живым, действующим лицом, несмотря на ее неподвижность. Я видел, например, женщину, появившуюся с ребенком в одном окне Ратуши: восторг был неописанный, и всякий раз, как ребенок, смотря на эту грозную толпу, бил ручонками и начинал прыгать – шапки летели кверху, и тысячи людей трепетали от удовольствия. В два часа впустили депутацию к правительству, и тут-то Жерар{77} и Кабе предъявили известные требования от имени народа, о которых мы уже упоминали. Луи Блан взялся отвечать. Несмотря на двусмысленное его положение, как друга работников и в то же время друга Ламартина, он отвечал хорошо: «Не заставляйте нас, – сказал он, – писать декреты под угрозой народа. Величие правительства, величие самого народа, которого мы представители, может быть этим унижено: мы готовы умереть, и не за себя, что мы без народа? – но именно за вас, для спасения вашего достоинства. Вспомните, что в эту минуту глаза всей Франции, всей Европы устремлены в одну комнату в, Ратуше». Ледрю-Роллен, который в эту минуту мог сделаться диктатором Франции, отступил перед страшною ответственностью решительного поступка и возвратился в лоно своих товарищей. Несмотря на приманку этого колоссального триумфа, устроенного в честь его, он твердо объявил, что отложить выборы в национальное собрание правительство не может, не узнав прежде мнения всей Франции. Кабе действовал чрезвычайно умеренно: высказав свои требования, он предложил спутникам своим тотчас же удалиться, для предоставления полной свободы действия правительству. Раздались крики: «oui, oui», «non, non». Собрие,{78} один из республиканских– публицистов, приобретший впоследствии большую известность, потребовал объяснений: обладает ли правительство единодушием, необходимым для успеха дела? и назвал Ламартина. Вызов этот дал возможность Ламартину произнести одну из торжественнейших речей своих, которая получила особенно значение от обстановки и от грозной минуты, какую переживал сам оратор. Еще накануне друзья предостерегали его от опасности его положения, и Ламартин отвечал на намеки уверением, что он готов сложить голову. Короче, вопрос тут шел не о чьей-либо голове, а о предотвращении ужасов междоусобной войны во Франции с пожертвованиями, каких потребует задача. «Господа, – сказал он, – имя мое было упомянуто, и я прошу позволения отвечать на вызов». Потом, возобновляя вопрос о свободе совести правительства, он выразился так: «Что можем мы противопоставить вам? Ничего, кроме вашего собственного смысла, кроме могущества общественного разума, который действует в эту минуту между вами невидимо и принуждает вас остановиться перед нами! Как велика эта нравственная сила, это доказывается тем, что мы, благодаря ей, остаемся спокойны и независимы в виду огромной массы народа, окружающего дворец, защищаемый одним только понятием о его неприкосновенности». И потом, возражая депутации на три главные требования и переходя к последнему (отсрочке общих выборов), он сказал: «Если бы вы вздумали заставить меня, под угрозой насилия, лишить голоса всю остальную нацию, объявить ей, что она лишена права на представительство и на основание конституционного порядка в течение трех, шести, а может, почем знать? и более месяцев, я вам скажу то, что говорил несколько дней тому назад иному правительству: приговор этот вы можете вырвать у меня только с моим сердцем!» Многие депутаты, растроганные речью, кинулись к нему обнимать его, а оратор, ободренный успехом, прибавил: «Берегитесь подобных собраний народа и не шутите с ними. 18-е брюмера народа может повести за собой 18-е брюмера деспотизма»{79}. Речь Ламартина порешила дело. Необходимость сохранить целость и независимость правительства чувствовалась невольно, как мы видели, самими депутациями от народа; после речи Ламартина не могло быть более и помина о раздроблении властей. Ледрю-Роллен так вошел в роль самоотречения, что в один голос со всеми товарищами не соглашался, покамест, ни на одно из требований клубов. Мало того: вечером того же дня, когда одна отдельная группа решилась еще попытать счастья и пришла к нему, прямо в министерство, с предложением согласиться, по крайней мере, на оставление войска за городом, он отвечал решительно: «Нет, граждане, подобные чувства несправедливости и недоверия не могут жить в сердцах ваших. Мы все благодарим вас за ваше участие к нам; мы благодарим всю национальную гвардию за удивительную ее деятельность, которая упрочила порядок в нашем городе; но мы не хотим злоупотреблять долее вашим усердием и призовем на помощь вам братьев ваших по армии».
Депутация клубов решилась, наконец, удалиться, но народ, не вполне довольный малым успехом требований, предъявленных от его имени, вызывал к себе самое правительство. Массам хотелось, по крайней мере, лично заявить, что они берут Ледрю-Роллена под свое покровительство и противопоставляют его любимцу мещан и лавочников Ламартину. При кликах народа, на крыльце и эстраде Ратуши, показалось временное правительство в полном своем составе. Понятно, что никто не мог говорить с толпой теперь, кроме Луи Блана, посредника между двумя министрами, разделявшими симпатии парижского населения. Несколько слов, сказанных им, были покрыты рукоплесканиями, но все глаза, все руки и все клики направлены были к Ледрю-Роллену, «Vive Ledru-Rollin!» носилось в воздухе оглушительно. Он молчал, и на полном, открытом, сангвинистическом лице его ничего не выражалось, кроме твердой решимости выйти из Ратуши вместе со всеми товарищами. Политический день кончился.
Дав этот косвенный выговор Ламартину, вся масса тронулась и теми же правильными рядами направилась к Бастильской площади. Там, в глубоком молчании и с открытыми головами, она прошла кругом июльской колонны{80}, свершая поминки по убитым 1830 года, а потом двинулась в богатые и аристократические кварталы города, с явной целью распространить спасительный ужас на заговорщиков и недовольных. Я опять встретил голову этой чудовищной, нескончаемой колонны: она пела хором «la Marsellaise», «Chant du départ»{81} и другие республиканские песни. Никто не отделялся от рядов; только песни, по временам, прерывались криками, впрочем не нарушавшими их мерного такта, которые требовали, чтобы встреченные пешеходы, зрители в окнах и хозяева у лавок кричали «vive la république» и снимали шляпы перед царствующим народом. Масса эта остановилась на минуту у биржи и провозгласила: «à bas les agioteurs»[70], a затем одна часть ее отделилась и перешла в Сен-Жерменский квартал. Там, проходя мимо всех этих дворцов, по обыкновению с глухо-наглухо запертыми воротами, они пели: «ça ira»{82}. Никто при этом, однакож, не был оскорблен ни в личности, ни в имуществе. Страсти, видимо, сдерживались целью, которую задала себе толпа, именно уничтожить попытки какого-либо сопротивления новому порядку дел одною грозой своего появления. Если принять в соображение, что под всеми этими знаменами легко было различить самому беглому взгляду множество лиц, на которых гнев и ярость ожесточенной бедности оставили свои несомненные признаки, и множество глаз, горевших свирепым огнем, то поймем, что скромность толпы стоила ей значительных усилий. Вечером разредевшие обломки ее ходили группами по городу, заставляя иллюминировать дома, и покрикивали иронически: «des lampions ou des pierres»[71]. По первому такому приказанию город зажегся разноцветными огнями сверху донизу. В час ночи все было пусто на улицах, но дома продолжали гореть, заливая улицы реками света и образуя фантастическую декорацию. На другой день все вошло в обычный порядок; буря промчалась, люди вздохнули свободнее, но во всех углах Парижа слышался один и тот же вопрос изумления: неужели все это могло пройти так, город остался цел, и никто не поплатился за спектакль? «Journal des Débats», рассказывая вкратце события дня, буквально повторил этот вопрос.
В сущности, он даром и не прошел. Во-первых, правительство, несмотря на эту маску независимости, которую позволили ему сохранить до времени, не устояло под давлением такого страшного гнета. Оно отложило выборы национальной гвардии до 5 апреля, а выборы в Национальное собрание до 23 того же месяца, забыв превосходные резоны, на основании которых сопротивлялось этой мере. Во-вторых, сами устроители и начальники движения поняли тотчас же, что играли с огнем: в клубах оказалось разногласие на другой же день манифестации. Одни из них заговорили, что она ни к чему не повела, кроме бесполезного раздражения владеющих классов, а может быть, и всей земли; другие, напротив, что она зашла далеко, но все это было уже поздно. Как трепетали сами республиканцы за себя и за участь Франции, при этой выставке материальных сил, заключающихся в пролетариате, доказали оба правительственные журналы: демократическая «la Réforme» и чисто республиканский «le National». В самый день торжественного шествия пролетариата по Парижу оба они единогласно умоляли оскорбленных граждан национальной гвардии не заводить, из пустого тщеславия, драки с народом и не делать таким образом столицы Франции позорищем братоубийственной войны. Этого не случилось, но национальная гвардия, а с нею и все земледельческое население Франции затаили на время обиду и ждали первого случая отмстить за нее. Случай не замедлил представиться: 16-го следующего апреля они вдвоем отвечали клубам и работникам точно такою же колоссальной манифестацией, но уже при кликах: «долой коммунистов». Мартовская драма имела злое потомство; она вызвала апрельскую драму, которая с своей стороны разрешилась майскою{83}, а эта, наконец, произвела июньскую резню – последний акт всей эфемерной французской республики…
В шуме, произведенном циркуляром Ледрю-Роллена, пропал другой циркуляр министра просвещения и духовных дел, Карно, от 6-го марта. Впрочем, надо заметить, что Ледрю-Роллен своим циркуляром 12-го марта затмил собственные свои распоряжения, решительные не менее его знаменитого последнего наставления комиссарам правительства. Еще 8-го марта он предписывал им обратить особенное внимание на положение работников каждого департамента, и прибавлял такую вызывающую фразу: «республика ими основана и для них существует» (c'est par eux et pour eux que s'est fonde la République). Карно взял на свое попечение крестьян. Следуя основной мысли Ледрю-Роллена, он предписывал ректорам учебных округов стараться прежде всего привлечь крестьян к выборам, употребил для этого влияние школьных учителей, которые между ними живут и ими уважаются. Изъяснив далее, что Франция нуждается не столько в ученых и ораторах, сколько в новых людях и в ясном выражении нужд народных, Карно восклицал: «пусть 36 тысяч наших школьных учителей восстанут по моему призыву и сделаются глашатаями новых оснований народного образования перед сельским населением нашим. Франция жаждет новых людей». И потом, как бы поправляя самого себя, Карно продолжал: «да отчего бы школьным учителям ограничиться одною этой проповедью, а не занять самим места в среде ожидаемых новых людей? Пусть придут они к нам во имя тех сельских классов, в недрах которых они родились и страдания которых они разделяли вполне. Таков, господин ректор, новый вид общественной службы, которую я ожидаю от гг. школьных учителей в это революционное время». Документ этот, как мы сказали, был заслонен циркуляром Роллена, но взамен того он возбудил жаркую полемику по ту сторону Канала, в Англии, на родине представительного правительства, и удостоился там подробного исследования. Особенно задело английскую журналистику выступление, где Карно излагает свой взгляд на значение представительной системы вообще. По его мнению, хорошая республиканская палата есть не что иное как собрание присяжных, где большинство решает через да или нет предложения, выработанные специальными, избранными людьми. Малообразованный и даже безграмотный человек, но с здравым смыслом, любовью к народу и знанием его нужд, как нельзя лучше поместит при этом свое да или нет. Афоризмы Карно, возбудившие интерес в Англии, едва были выслушаны в своем отечестве тем сельским населением, к которому обращались, да и благие последствия, каких могло еще ожидать республиканское правительство от распространения их в народе, оно же само и постаралось уничтожить в зародыше. Десять дней спустя после появления циркуляра Карно, товарищ его, министр финансов, Гарнье-Пажес опубликовал декрет о прибавочном налоге в 45 сантимов на каждый франк, падавшем преимущественно на крестьян-земледельцев, чем возбудил между ними сильное подозрение, что все заискивающие слова, к ним обращенные, только маска, принятая с целью ловчее развязать их кошельки и приличнее обременить собственность. Этот последний важный документ временного правительства имел тоже свою историю, которую мы и расскажем.
Банкир Гудшо, первый по времени министр финансов новой республики, в короткий срок своего управления сделал, однакоже, такую крупную ошибку, что приобрел тем имя себе. Из пустого желания показать, что ничего не переменилось во Франции с 24-го февраля, кроме формы правления, он бросил 50 миллионов на уплату владельцам 5 %-й ренты еще до срока. Разумеется, настоящее положение дел скоро обнаружилось, а казначейство утратило 50 мил. фр. в самую трудную для себя минуту.
Иначе поступил Гарнье-Пажес, назначенный вскоре министром финансов и уступивший место мэра города Парижа Арману Марасту, предварительно отказавшемуся от управления коронными имениями, которое ему было предложено. Гарнье-Пажес представил 9-го марта временному правительству свой знаменитый пространный доклад, где изображал Францию на краю финансовой гибели. По его соображениям, администрация; Лудовика-Филиппа сделала в течение семи лет (то есть в министерство Гизо, с которым Гарнье вел непримиримую парламентскую войну) более 912 ½ милл. долга, а в последние дни своего существования (то есть в 268 дней) издерживало каждый день по одному слишком миллиону сверх положенного. Суммы эти она покрывала самым опасным для государства способом, именно захватывая деньги сберегательных касс» которые всегда могли быть потребованы вкладчиками, и занимая у казначейства в счет будущих доходов. Таким образом возник, накануне революции, долг сберегательным кассам в 350 милл. и долг казначейства, выпускавшего на себя облигации (bons de trésor) в 325 милл. Для покрытия первого долга, в феврале 1848 года, состояло наличной суммы в кассе только 65½ милл., а для покрытия второго не было ничего, так как суммы, определенные на это из комиссии погашения (amortissement), были предварительно растрачены на постройки железных дорог и публичные работы, которыми так хвасталось правление Лудовика-Филиппа. Гарнье-Пажес еще не удовольствовался этою мрачною картиной: он объявил, что к концу 1848 года наступило бы для Франции неизбежное банкротство, ибо расходы государства должны были, несмотря на все сделанные им долги, превысить бюджет 73 ½ миллионами. Министр заключил свой доклад восклицанием: «Да, граждане, провозгласим с радостью и гордостью ту истину, что ко множеству прав, которые имеет республика на любовь народа и на уважение света, должно присоединиться еще новое: республика спасла Францию от банкротства». Это было сильно сказано, но уже и тогда люди, знавшие, в каком цветущем состоянии находится во Франции наука группировать цифры, сомневались в непогрешительности всех выводов г. Пажеса. Действительно, вскоре объяснилось, что министр забыл упомянуть о свойстве тех вкладов сберегательной кассы, которые помещены туда общинами и ассоциациями, живущими на проценты и никогда не трогающими своих капиталов; это мертвые капиталы, и они-то составляют едва ли не половину всего имущества касс; что же касается до второй подвижной половины их сумм, то касса приобрела 5 % ренту, дающую ей 8 мил. процентов, представляющую капитал тоже около 200 милл. Если с этой стороны опасность кризиса была преувеличена министром, то с другой – состояние комиссии погашения оценено им не совсем верно. Она не была совершенно пуста, как утверждал г. Пажес, а напротив числила у себя 80 милл., и притом с целью покрыть эту статью окончательно заключен был при Лудовике-Филиппе заем в 200 милл. на очень выгодных условиях и очень хорошо поступавший В казну. Как бы то ни было, но впечатление, произведенное докладом Гарнье-Пажеса в публике, нисколько не было ослаблено возражателями, потому что и сами они признавали тяжесть общего долга, лежащего на Франции, массу долгов казначейства, ничем не прикрытых, по случаю прерванного займа, и важного дефицита, который грозил республиканскому бюджету в конце года[72].







