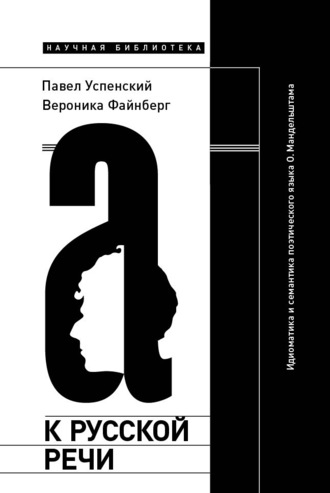
Павел Успенский
К русской речи: Идиоматика и семантика поэтического языка О. Мандельштама
И вот тут как раз включается психологический фактор: если интерпретатор видит цитату, ему кажется, что она действительно есть в тексте. Каждый филолог, который долго размышлял о каком-либо произведении, знает это ощущение – чем больше думаешь о тексте, тем больше разного в нем видится, в частности, и «чужих слов». К тому же сознание так устроено, что ему нравится ловить цитаты. Здесь уже каждый читатель может подтвердить, что хотя бы раз в жизни ему было приятно опознать «чужое слово». По-видимому, у сладкого мига узнаванья (поймали? понравилось?) есть нейрофизиологические основания, и в целом эти миги (как сказали бы символисты) являются неотъемлемой частью бартовского удовольствия от текста.
Раз сознание, пережившее небольшую эйфорию при узнавании цитаты, свидетельствует, что факт цитации налицо, значит, текст объективно содержит «чужое слово». И интерпретатор, в руках которого находится весь смысл всего текста, практически не может избежать соблазна трактовать цитату как смыслообразующую.
Вероятно, именно по этим психологическим причинам в «Концерте на вокзале» усматривается и не подвергается сомнению полемика с Лермонтовым. Мы понимаем: достаточно странно утверждать, что в данном случае цитация не объективна и что ощущение ее присутствия возникает благодаря психологическим предпосылкам, – стихи-то хрестоматийные, кто же не видит этой цитаты. Мы обещаем объяснить эту идею чуть ниже.
При этом власть толкователя над текстом устроена так, что какие-то цитатные элементы он может объявлять несущественными. Например, Тарановский, рассматривая первую строку стихов Мандельштама «Нельзя дышать, и твердь кишит червями», заметил, что она связана с началом стихотворения Бурлюка «Мертвое небо» (опубл. 1913): «„Небо труп!“ не больше! / Звезды – черви – пьяные туманом» [Тарановский 2000: 26]. При этом, по мысли исследователя, «такой подтекст никак не способствует более углубленному пониманию стихотворения» [Тарановский 2000: 27].
Что же мы видим? Лермонтовское «чужое слово» – смыслообразующий элемент, а бурлюковское – нет. Почему? Потому что так решил интерпретатор текста.
Можно ли – хотя бы гипотетически – представить обратную ситуацию? Да, кажется, что возможно: если бы интерпретатор решил, что стихи Бурлюка актуализируются при чтении Мандельштама, то речь бы шла о смысловом подтексте; стихи Лермонтова же могли бы быть упомянуты, так сказать, в запятых, – да, цитата есть, но она ни на что не влияет.
Понятно, что тексты Бурлюка и Лермонтова узнаются по-разному. Произведение футуриста мало кому известно, тогда как шедевр Лермонтова – ультраканонический текст. Очевидно, что второй сознание образованного человека опознает с большей легкостью и готовностью.
Если у читателя разыгралось воображение, то он легко представит ситуацию, в которой ни стихи Бурлюка, ни стихи Лермонтова в «Концерте на вокзале» смыслообразующими не являются: да, Мандельштам использует «чужое слово», но смыслы формулирует свои, мандельштамовские (точно так же, как мы, намекая выше на строку «И сладок нам лишь узнаванья миг», имели в виду свою мысль, но выразили ее с помощью «чужого слова»).
Для контраста вернемся ненадолго к позиции историка. Допустим, он занимается рефлексами «Выхожу один я на дорогу…» в русской поэзии (или рефлексами стихов Бурлюка). Его позиция, не претендующая на трактовку всего смысла текста, в данном случае будет очень понятной: вот еще один пример, в котором мы видим отголосок стихов Лермонтова, и это подтверждает каноничность и влиятельность хрестоматийного стихотворения (или позволяет утверждать, что стихи Бурлюка все-таки отразились в стихах современников).
Итак, пока мы стоим на позиции историка литературы, все в порядке: с некоторой дистанции, оснащенные объективным научным инструментарием, мы анализируем какие-то аспекты «Концерта на вокзале» и помещаем их в контекст определенного сегмента литературной традиции. Мы даже можем реконструировать особенности авторского мышления, прорабатывая связку автор – текст. Но здесь мы держим дистанцию и считаем, что выявляем некоторую закономерность (как устроено?), а была ли она кем-нибудь замечена, воспринята или истолкована, как она отразилась на литературе (что получилось?) – уже другой вопрос.
Переходя на позицию интерпретатора, мы начинаем субъективно решать, каким образом «чужое слово» влияет на смысл произведения. При этом если, будучи историками, мы скорее просто констатируем определенные факты и закономерности, то, становясь толкователями, мы навязываем наше прочтение сообществу, предполагая, что именно оно – единственно правильное. Подчеркнем, что самое существенное – власть над смыслом текста. Именно смысл мы (будучи интерпретаторами) подчинили себе, и именно нашу версию мы считаем нормативной. Далее мы прескриптивно требуем от читателя, чтобы он разделял наше убеждение, поскольку мы продемонстрировали, как с помощью «подтекста» происходит прояснение / приращение смысла стихотворения.
Ремарка. Мы осознаем, что сам акт чтения – уже акт интерпретации. Однако частное, приватное чтение отличается от публичной интерпретации, осуществленной в рамках научного поля. Второе к тому же является более рефлексивным и научным процессом (вспомним реплику Гаспарова в дискуссии на мандельштамовской конференции). Мы также понимаем, что культуре необходима позиция интерпретатора, поэтому, несмотря на высказанные соображения, мы никоим образом не пытаемся сказать, что процесс интерпретации чем-то плох. Единственное, что мы хотим отметить, – сложившаяся практика чтения крайне неоднозначно сказалась на понимании Мандельштама.
Психологическое объяснение, однако, не вполне разъясняет, почему интерпретатор регулярно трактует «чужое слово» как смыслообразующий элемент. Из сказанного следует, что у толкователя есть психологическая предрасположенность думать таким образом, но мы пока ничего не сказали о генезисе этого паттерна. Поэтому перейдем ко второму объяснению.
Объяснение историческое. Выше мы отмечали, что поэзия русского модернизма насквозь цитатна, и этот факт нуждается в объяснении. Мандельштамоведение базируется на предпосылке, что «чужое слово» является смыслообразующим элементом и составляет смысловое ядро толкуемого текста. Существует ли альтернативное объяснение?
С нашей точки зрения – да. Читательские практики, нацеленные на выявление цитат, неразрывно связаны с феноменом модернизма. Модернизм установил историческую дистанцию по отношению к литературе XIX века, которая оформилась как предшествующая литературная традиция. Вместе с тем диалог с литературой прошлого также является неотъемлемой частью модернистской эпохи. Тенденция обнуления прошлого ради модерной культуры и модерного мифа уравновешивалась тенденцией пересмотра прошлого и его избирательной актуализации и (ре)канонизации.
В такой перспективе цитация в самом широком смысле слова может обращать на себя внимание как эстетический жест, напоминающий о предшествующем тексте, и оказываться маркированной в глазах читателя. Текст, таким образом, становится «местом памяти», причем памяти избирательной.
Термин «место памяти» был введен французским историком П. Нора для явлений, сохраняющих память об историческом прошлом и наделенных символической аурой: памятники, музеи, архивы, канонические тексты (не обязательно исторические) [Нора 1999]. Закономерно предположить, что и интертекстуальный план превращает текст в особое место памяти – памяти о предшествующей литературной традиции. Это положение применительно к интертекстуальности в общих чертах (без дифференциации литературы XIX и XX веков) было сформулировано Р. Лахманн [Lachmann 2008].
«Анфилада катастроф» русской истории XX века у многих писателей и читателей вызвала ощущение если не распада, то радикальной трансформации культуры и разрушения того, что историк М. Хальбвакс назвал «социальными рамками памяти» [Хальбвакс 2007]. Цитация в таком контексте стала способом напомнить о значимых произведениях литературной традиции и поддержать их существование в мемориальной практике читателей. Иными словами, текст нечто сообщает и одновременно актуализирует в памяти другие тексты, о которых с точки зрения автора необходимо помнить в условиях длящейся катастрофы4.
Постулирование зависимости смысла текста от «чужого слова», сформулированное в работах Тарановского и развитое Роненом, – это существенный сдвиг в практиках чтения, вызванный тем же стремлением сохранить литературную традицию, что и у самих авторов произведений. Не случайно, надо полагать, Тарановский сформировался в русской эмиграции первой волны, консервирующий культурный характер которой хорошо известен.
В определенной перспективе прочтения стихов Мандельштама (и других поэтов), которые превращают их (стихи) в шифр, раскрываемый только с помощью «подтекстов», то есть произведений литературной традиции, можно считать своего рода читательской гиперкоррекцией, в основе которой – борьба с забвением самой литературной традиции.
Эта практика чтения прижилась в Советском Союзе у филологов второй половины XX века не только как способ прочтения поэтов модернизма, но и как способ сохранения самих модернистов и литературы в целом. Для того чтобы эта практика прижилась, были все основания: недоверие значительной части интеллигенции к официальному дискурсу и хорошо известный метод «чтения между строк» подготовили почву для «подтекстов». В каком-то смысле, существенно огрубляя, в позднесоветское время Мандельштам был сконструирован по дискурсивной модели самой эпохи, и синхронные практики толкования текстов распространялись на объяснение творчества поэта. Его стихи как будто говорили что-то другое, и это другое вычитывалось «между строк», а содержанием «тайного шифра» оказывались смыслы, поставляемые культурной традицией (то есть «подтексты»). Такое конструирование поэта позволяло интеллигенции советского времени не только переживать чувство коллективной общности, но и противопоставлять «своего Мандельштама» Мандельштаму официального дискурса (см., например, официозное предисловие А. Дымшица к изданию Мандельштама в авторитетной серии «Библиотиека поэта» 1973 года)5. Судя по тому, что и после 1991 года интерпретационная тенденция, основанная на подтекстах, осталась в силе, нетрудно прийти к выводу, что бои за репрезентацию и «правильное» прочтение модернистского канона не окончились.
Итак, в поэзии XX века функция «чужого слова» связана с необходимостью для текста быть не только сообщением, передающим нечто новое, но и «местом памяти». Не так хорошо изученная неофициальная поэзия второй половины века (как московская, так и ленинградская) наследует этому принципу, создавая высказывания, помнящие о традиции, в которую включены уже и сами модернистские произведения.
«Чужое слово», таким образом, нет необходимости всегда воспринимать как инкорпорированное в смысловое ядро стихов. Вновь напомним: конечно, случаи «классических» подтекстов в поэзии модернизма встречаются, но, с нашей точки зрения, реже, чем принято считать. Подчеркнем еще раз, что, находясь в позиции исторической поэтики, в любом тексте мы можем видеть многочисленные проявления интертекстуальности, и в перспективе изучения трансмиссии образов, мотивов, топосов, приемов и других литературных явлений такой взгляд необходим. Переход на позицию интерпретатора часто заставляет видеть в «чужом слове» смыслообразующий элемент. Однако интертекст во многих случаях составляет ассоциативное поле произведения, тогда как его смысл, если находиться в позиции интерпретатора, доступен и вне «чужого слова». Говоря обобщенно, функция «чужого слова» – не дать предшествующим литературным памятникам быть забытыми.
Итак, «подтекст» можно воспринимать как следствие своего рода гиперкоррекции, а базовую функцию «чужого слова» в модернистской поэзии – как связанную не со смыслом, а с мемориальными практиками. Но как быть с нашим утверждением, что цитата составляет ассоциативное поле произведения?
Если читатель введения помнит, выше мы обещали вернуться к странному утверждению, что полемика с Лермонтовым в «Концерте на вокзале» усматривается скорее по психологическим причинам – сознание толкователя убеждено в цитате. Мы, разумеется, тоже ловим эту цитату, однако не уверены в ее влиянии на смысл. С нашей точки зрения, ее функция – напомнить о «Выхожу один я на дорогу…», а не активизировать смысл классического стихотворения. Читая строку «И ни одна звезда не говорит», мы пытаемся понять ее смысл и одновременно вспоминаем о Лермонтове. Думается, что это – две разные интеллектуальные операции.
В самом деле, в акте перцепции строки мы осознаем, что она описывает звездное небо, которое антропоморфизируется и говорящему субъекту кажется разобщенным. Или он наделяет звездное небо тем, что переживает сам, – ощущением отсутствия воздуха, и все настолько отвратительно, что ему кажется: звезды не могут противостоять мраку («Нельзя дышать, и твердь кишит червями»). Говоря проще, мы понимаем, что «я» плохо, одиноко и тяжело. Мы, конечно, намеренно приводим ненаучные формулировки, пытаясь как-то отрефлексировать процесс понимания. Важно не это, а то, что понимание происходит и может происходить без актуализации произведения Лермонтова.
Но вот наше сознание сообразило, что здесь цитируется «Выхожу один я на дорогу…». Может быть, оно легко вспомнило цитату, может быть, воспоминанию предшествовало смутное ощущение чего-то знакомого и потом в голове что-то щелкнуло. В любом случае в мозге активизировался нейронный след лермонтовского текста – мы о нем вспомнили и еще какое-то время будем помнить, и пока мы будем его держать в актуальной памяти или в светлой зоне сознания, шедевр Лермонтова будет существовать, а не пребывать в архиве (или небытии, если угодно).
Итак, текст Мандельштама напомнил нам о Лермонтове. Значит ли это, что «Выхожу один я на дорогу…» влияет на смысл «Концерта на вокзале»? Это зависит от практик чтения. Привычная интертекстуальная практика чтения Мандельштама подтолкнет нас к утвердительному ответу. Менее привычная мемориальная / «напоминательная» – к отрицательному («чужое слово» напомнило о предшествующем произведении и этим выполнило свою задачу).
Допустим, Лермонтов влияет на смысл стихотворения Мандельштама. Мы можем решить вслед за Тарановским, что здесь – полемика. Можем, однако, предположить, что, наоборот, «я» Мандельштама чувствует то же одиночество и тоскливость, как и «я» Лермонтова, – и тут скорее согласие. Декорации меняются (мир в XX веке стал дисгармоничным), а природа поэта остается неизменной. Наверное, допустимы и какие-то другие соображения. На наш взгляд, они предельно субъективны, необязательны и в большей степени зависят от риторического устройства сопоставления, а не от объективного характера сходства и различий смысловых элементов. Поэтому их резонно счесть факультативными – каждый читатель сам для себя решает, влияет ли строка Лермонтова на смысл «Концерта на вокзале», и если да, то каким именно образом.
Скажем чуть по-другому: мы можем придать подобным наблюдениям характер научного знания, если наша цель заключается в реконструкции авторской психологии. Судя по тексту, автор думал то-то и то-то по таким-то причинам, и поэтому в произведении есть определенные смысловые оттенки. Может быть, для восстановления авторского замысла или реакции идеального читателя (здесь эти фигуры сближаются) такие построения резонны, но сообщает ли текст все эти оттенки сам по себе?
(Вновь напомним, что культура нуждается в субъективных прочтениях, и многие филологи делают их мастерски, глубоко и убедительно. Если что здесь и отстаивать, так это право читать по-другому.)
Наконец, можно вообразить ситуацию, что Лермонтов не вспомнился, точно так же как не вспомнился и Бурлюк. Изменится ли смысл «Концерта на вокзале»? И вновь мы ответим: это зависит от доминирующих практик чтения. Для кого-то изменится, для кого-то нет. Можно ли понимать «Концерт на вокзале» без Лермонтова и Бурлюка? Нам представляется, что можно. Точно так же строки «Так птицы на своей латыни / Молились Богу в старину» можно воспринимать и осмыслять, не зная, что они – парафраз фрагмента старофранцузского стихотворения [Мандельштамы 2002: 53].
Мы, таким образом, хотим подчеркнуть, что узнавание текстов предшествующей традиции и понимание конкретного стихотворения – не обязательно связанные явления. Конечно, есть группа текстов, которая опознается с большей легкостью и в целом должна опознаваться почти автоматически, – это тексты, входящие в литературный канон. Именно поэтому «лермонтовский след» кажется таким естественным; не видеть его – значит исключать себя из воображемого сообщества образованных людей, помнящих хрестоматийные произведения. Мы, однако, убеждены, что опознание «чужого слова» не должно быть всегда строго связанным с пониманием и уж тем более с интерпретацией.
Пусть в глазах сторонника интертекстуальных построений это будет куцее, неполноценное понимание, но все же это будет понимание.
В конце концов, искушенные (и не очень) любители поэзии ценят стихи Мандельштама, помнят их наизусть, цитируют к месту и не к месту, но вовсе не обязательно «ловят» все выявленные мандельштамоведами «подтексты».
Небольшой мысленный эксперимент. Представим, что, пока мы пишем эти строки, в авторитетном журнале публикуется статья, в которой обнаруживается какой-то самый главный подтекст/источник к «Концерту на вокзале», который никому раньше не был виден. Значит ли это, что все совершенные акты перцепции стихов Мандельштама до этого момента были неправильными? Полагаем, все-таки нет. Стихи, очевидно, и без главного подтекста/источника что-то сообщали многочисленным читателям, причем они – в силу своих способностей – как-то этот текст понимали. Изменит ли это гипотетическое научное сообщение представления о фигуре автора, о его мышлении? Да, конечно, – выяснится, что Мандельштам знал еще какой-то текст и, скорее всего, придерживался каких-то для нас неожиданных взглядов. Образ научного, исторического Мандельштама несомненно изменится (если подтекст/источник будет принят сообществом); вероятно, трансформируется и представление о стиле мышления автора. Но поскольку Мандельштам еще и актуальное, свежо переживаемое чтение, то неизвестно, изменится ли восприятие самого «Концерта на вокзале» (видимо, это тоже зависит от действий сообщества и потребности культуры в данный момент иметь авторитетное прочтение хрестоматийного текста). Читатель, погруженный в литературу о Мандельштаме, может представить, как последовательно менялось или не менялось читательское представление о «Концерте на вокзале», по написанным в разное время работам К. Ф. Тарановского, Б. М. Гаспарова, И. З. Сурат и других исследователей.
В связи с этим рассуждением необходимо обратиться к классической статье Ю. М. Лотмана «Текст и структура аудитории». Рассматривая отрывок первоначального варианта 4‐й главы «Евгения Онегина» – «Словами вещего поэта / Сказать и мне позволено: / Темира, Дафна и Лилета – / Как сон, забыты мной давно», – исследователь заметил, что в нем цитируется стихотворение Дельвига, которое было опубликовано лишь в 1922 году, то есть Пушкин отсылал читателей к тексту, который им заведомо не был известен. «Таким образом, пушкинский текст, во-первых, рассекал аудиторию на две группы: крайне малочисленную, которой текст был понятен и интимно знаком, и основную массу читателей, которые чувствовали в нем намек, но расшифровать его не могли» [Лотман 2002: 173]. Строго говоря, случай «Евгения Онегина», описанный в статье, отличается от обсуждаемых подтекстов, поскольку у Пушкина наличие цитаты маркировано. Однако после публикации статьи мысль Лотмана о структуре аудитории стала весьма популярной и начала толковаться расширительно, поэтому ее следует обсудить в связи с мандельштамовской интертекстуальностью.
Допустим, каждый подтекст разделяет аудиторию читателей «Концерта на вокзале» на две группы: группу читателей, считывающих подтекст, и всех остальных. Поскольку количество подтекстов к обсуждаемому стихотворению достаточно велико и это множество, скорее всего, будет иногда пополняться новыми находками, мы приходим к ситуации, когда одно и то же произведение создает огромное количество читательских аудиторий. Понятно, что во множественности смыслов текста на практике нет ничего удивительного – вряд ли найдутся два человека, дословно одинаково воспринимающих одно и то же произведение, однако мы сейчас обсуждаем модель, основанную на одном критерии (на подтекстах). Едва ли справедливо автоматически относить читателя, который не увидел какой-то один подтекст, к группе «всех остальных», понимающих текст неверно (в силу того, что подтекст предписывает «верное» осознание смысла произведения). Если и применять к Мандельштаму лотмановскую идею читательских аудиторий, то, как нам представляется, в мягком варианте. Так, для того же «Концерта на вокзале» можно моделировать разные аудитории, основанные не на идее «правильно понимания», а на чувстве удовольствия от узнавания «чужого слова». Тогда допустимо предположить, что каждый подтекст структурно рассекает читателей и выделяет группу тех, кому особенно приятно поймать интертекст. Похоже, этот механизм подкрепления положительными эмоциями работает по принципу «чем больше – тем лучше», и мы можем вообразить читателя, получающего все мыслимое удовольствие от рецепции «Концерта на вокзале» (включая и гиперкоррекцию, то есть «вчитанные» подтексты)6. Но это не означает, что именно такое гедонистическое чтение в самом деле объективно отражает смысл текста и более предпочтительно. (Подчеркнем, что мы при этом не отрицаем существования контрпримеров, в которых происходит расслоение аудитории по смысловому принципу.)
Мы думаем, что нормировать рецепцию, как это предполагает позиция интерпретатора, необязательно. Нам, во всяком случае, было интересно понять, что именно в стихах поэта определяет его популярность у ценителей поэзии.
Есть и еще одно соображение: культуре не в меньшей степени, чем память, необходимо забвение. Без своего рода обнуления памяти о предшествующих текстах затруднительно создавать новые. Поэзия модернизма и стихи Мандельштама, с одной стороны, а филология и мандельштамоведение, с другой, разными средствами препятствовали и препятствуют забвению литературы. Но это не значит, что поэзия Мандельштама сводится только к консервации памятников культуры, – в конце концов, поэт, называвший себя «смысловиком», очевидно, на конкретном языке говорил что-то о себе и о мире (здесь уместно вспомнить реплику Бродского – «не нужно так глубоко копать, потому что это не для того написано!»). В этой перспективе неразличение, «забывание» подтекстов, как кажется, явление вполне закономерное.
Подчеркнем: «чужое слово» не всегда допустимо игнорировать. Так, если в произведении какая-то фраза дана курсивом или в кавычках, если в тексте обнаруживается примечание с указанием автора (как в стихотворении «В изголовье черное распятье» к словам «подводный камень веры» стоит примечание – «Тютчев» [Мандельштам 1990б: 134]), если, наконец, произведение отсылает к культурным и литературным явлениям (Аид, Дон Жуан и т. п.) и вообще каким-либо образом маркирует отсылку к чему-либо, то игнорировать это невозможно (см. также: [Минц 1973/1999]).
Проблема обнаружения подтекстов заключается еще и в том, что они часто возникают в тех фрагментах стихов Мандельштама, где, казалось бы, ничего, кроме слов самого поэта, нет. А поскольку широкая теория интертекстуальности утверждает, что все слова – чужие, то возникает и убежденность, что к каждому слову нужно особое, интертекстуальное отношение, которое читатель непременно должен учитывать7.
Подведем некоторые итоги. Опровергнуть теорию «подтекстов» невозможно, потому что она иногда работает. В ней есть сильные и слабые стороны. Сильные стороны заключаются в пристальном внимании к литературной традиции в целом и к цитации у Мандельштама. В частности, и благодаря этой теории творчество поэта было канонизировано, а многие тексты – спасены от забвения (пребывания в архиве), и в этом ее важнейшее историческое значение.
Вновь объяснять слабые стороны мы не будем – они изложены выше. Если обобщать сказанное: это сложившаяся в определенных исторических условиях практика чтения, которая базируется на субъективных решениях исследователя, находящегося в позиции интерпретатора текста. Этот гипотетический исследователь навязывает свое прочтение каждому конкретному читателю и сообществу, считая его единственно правильным. Он придает излишнее значение «чужому слову» и наделяет его свойством смыслообразующего элемента.
Последствия работы этой теоретической машины (в которой – подчеркнем – есть необходимые и полезные элементы) заключаются в том, что в интерпретативном сообществе литературоведов Мандельштам превратился в переусложненного поэта, а интертекстуальное прочтение какого-либо его стихотворения стало своего рода тестом Роршаха. Картинка – непонятна, ассоциации – произвольны, но смыслов – великое множество. Причем все они сводятся к предшествующим текстам, будто поэт сам ничего и не сказал, а нарезал и перемешал в разных пропорциях цитаты и приправил множеством аллюзий.
Мы имеем дело с паттерном восприятия и толкования литературного произведения, который исторически обусловлен, но которому придан статус естественного и объективного подхода. Он абсолютизирует сам себя, а область его применения давно не ограничивается только Мандельштамом (это, впрочем, тема для отдельного исследования). Потенциально каждый новый акт интерпретации, базирующийся на этом паттерне, – вне зависимости от того, рассматривался ли текст ранее или нет, – сулит открытие новых неуловимых связей с традицией, шифров и тайных смыслов, выявляемых только в таком интерпретационном режиме и доступных в основном членам интерпретативного сообщества.
Оптика Бурдье [2005] предлагает видеть в этом не только влияние въевшейся практики чтения, но и динамику существования научного поля. Так, на точке входа исследователю известно, что символический капитал приносят интертекстуальные прочтения, которые предлагаются центральными фигурами, а также транслируются через мандельштамоведческий канон. Соответственно, для продвижения к ядру поля исследователю необходимо выдавать интерпретации, которые могут быть приняты авторитетными агентами. Поскольку изучение стихов Мандельштама практикует, в общем, один доминирующий тип их описания, логика обстоятельств требует постоянного усложнения интертекстуальных прочтений, иначе заведомо более простые интерпретации не будут способствовать продвижению внутри поля.
Идет как бы необратимая игра на повышение (со всеми возможными последствиями). Ее правила устроены таким образом, что появление новых интертекстуальных трактовок поддерживает или все больше легитимизирует продукцию центра научного поля и образцовые работы о поэте, составившие своего рода пантеон (центральные фигуры могут не принимать новые усложненные прочтения и видеть в них крайность / перегибы / излишнюю «мудреность» и т. п.). Для участников поля (как центральных, так и периферийных) все это приводит к переживанию коллективной идентичности, основанной на «правильном» чтении Мандельштама, на общем понятийном языке.
Характерно при этом, что из поля вытесняются не только авторы, предлагающие излишне сложные и мало обоснованные прочтения, но и авторы, придерживающиеся других методологических позиций. Приведем лишь один пример, разумеется относящийся к прошлому. Погруженный в научную литературу читатель может заметить, что из пантеона первопроходческих работ о поэте практически выпали труды С. В. Поляковой (1914–1994). Хотя на нее периодически ссылаются и хотя ее штудии нуждаются в корректировках и уточнениях, ее представление о поэтике Мандельштама учитывается редко. Нам представляется, что основная причина заключается в том, что Полякова не придерживалась магистральных тенденций и предлагала не вполне конвенциональное описание поэтики Мандельштама. В частности, исследовательница отказывалась видеть в стихах поэта о культуре сложный конгломерат подтекстов и аллюзий, хитросплетенный поэтический замысел, «дешифровка» которого доступна только литературоведу, и описывала их как тексты, задача которых – показать «объект как бы с птичьего полета, так что глаз схватывает лишь общие его очертания» и в которых заметен перевес «надрассудочного над рациональным и бутафории над подлинным материалом» [Полякова 1997: 66].
Взгляд через оптику Бурдье, однако, позволяет надеяться, что сложившиеся практики чтения, во многом детерминированные состоянием поля, могут измениться, поскольку являются, если угодно, не «врожденными», а «приобретенными».
Такое странное и перегруженное осмысление Мандельштама происходит еще и потому, что он поэт сложный. Важно, однако, напомнить очевидное: сложность и цитатность вовсе не одно и то же. Так, плохие, вторичные стихи, как правило, полны неотрефлексированных (необыгранных) цитат, ритмических и лексических отсылок (правда, клишированных), а иногда и переписанных фрагментов предшествующих текстов. Но исследователей «плохих текстов» мало, а мандельштамоведов много.
Сложность Мандельштама заключается прежде всего не в цитатности, а в новаторском и головокружительном использовании языка, в умении соединять в поэтическом слове конвенциональные значения и уникальные семантические оттенки. К сожалению, интертекстуальные построения последних десятилетий меньше всего учитывают именно язык поэта, хотя как раз Тарановский о нем думал и писал (см. подробнее в следующем разделе монографии).
Поэтому если что и предлагать взамен интертекстуальности, так это анализ языка и анализ смысла на лингвистической основе.
Подчеркнем, что это противопоставление не только не абсолютное, но даже и не объективное. При нормальном положении дел совершенно естественно не формировать оппозицию из языка и литературной традиции. Они тесно взаимодействуют между собой, хотя и находятся на разных уровнях.
Но в нынешних обстоятельствах изучения поэтики Мандельштама мы вынуждены противопоставить язык «подтекстам». Как нам видится, этот шаг позволит уйти от субъективных интерпретаций и посмотреть на поэта более объективным, научным взглядом. Именно через анализ языка мы можем приблизиться к пониманию смыслов мандельштамовских стихов, меньше опасаясь, что все наши построения зиждутся на субъективных факторах (но признаемся, что опасения все равно остаются).




