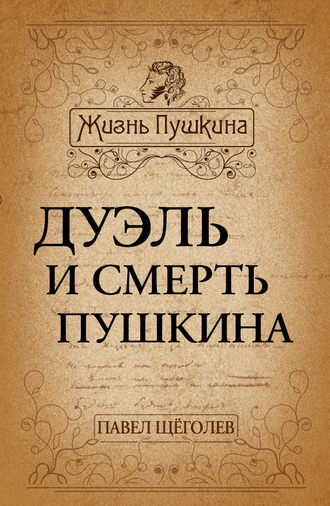
Павел Щёголев
Дуэль и смерть Пушкина
2
Из приведенного выше письма Адлерберга, писанного 5 января 1834 года, т. е. три месяца спустя после приезда Дантеса в Петербург, видно, что барон Геккерен являлся уже признанным покровителем Дантеса. Действительно, он выказал самую деятельную заботливость о молодом французе, хлопотал о помещении его на службу, заботился об его экзаменах, устраивал ему светские и сановные знакомства и, наконец, оказал ему самую широкую материальную поддержку. Дантес сообщил своему отцу в Зульц о добром к нему отношении Геккерена, а Дантес-старший поспешил высказать свои чувства в письме к Геккерену: «Я не могу в достаточной мере засвидетельствовать Вам всю мою признательность за все то добро, которое Вы сделали для моего сына; надеюсь, что он заслужит его. Письмо Вашего Превосходительства меня совершенно успокоило, потому что я не могу скрыть от Вас, что я беспокоился за его судьбу. Я боялся, как бы он, с его доверчивым и распущенным характером, не наделал вредных знакомств, но, благодаря Вашей благосклонности, благодаря тому, что Вы пожелали взять его под свое покровительство и выказать ему дружеское расположение, я спокоен. Я надеюсь, что его экзамен сойдет хорошо, так как он был принят в Сен-Сир четвертым по порядку (из 180 принятых вместе с ним)… Я принимаю с благодарностью предложение Вашего Превосходительства выдать ему на первые расходы по его экипировке и прошу Вас соблаговолить сообщить мне сумму Ваших издержек, дабы я мог вернуть их Вам. Доброе расположение Вашего Превосходительства дает мне право войти в подробности, которые покажут Вам все, что я могу сделать в настоящий момент для моего сына». Далее Дантес-отец говорит о своем материальном положении. Сын просил отца выдавать ему 800–900 франков ежемесячно, но для отца такая выдача была не по силам. Он мог ему дать всего 200 франков. Эта сумма вместе с жалованьем превосходила, по мнению отца, в три раза ту сумму, с которой можно было обойтись на французской службе. Если бы понадобилось, то с напряжением он мог бы еще увеличить выдачу, но лишь на время. Наконец, отец Дантеса согласился и еще на некоторые жертвы, если бы сын его попал в гвардию. Получив известие о зачислении сына в Кавалергардский полк, Дантес пишет восторженное письмо барону Геккерену: «Я сейчас узнал от Жоржа о его назначении и о том, что Вы соблаговолили для него сделать. Я не могу в достаточной мере выразить Вам мою благодарность и засвидетельствовать всю мою признательность. Жорж обязан своей будущностью только Вам, господин барон, – он смотрит на Вас, как на своего отца, и я надеюсь, что он будет достоин такого отношения. Единственное мое желание в этот момент – иметь возможность лично засвидетельствовать Вам всю мою признательность, так как со времени смерти моей жены это – первая счастливая минута, которую я испытал… Я спокоен за судьбу моего сына, которого я всецело уступаю Вашему Превосходительству…» Когда Дантес-отец писал последнюю фразу, он говорил просто из вежливости и вряд ли имел в виду реальное значение этих слов и уж наверно не думал, что через два года он действительно уступит своего сына барону Геккерену.
В действительности расположение и любовь барона Геккерена к Дантесу росли с каждым днем все больше и крепче. Можно сказать, что барон Геккерен души не чаял в молодом офицере, заботясь о нем с исключительной нежностью и предусмотрительностью. Родитель Дантеса и его семья не усматривали ничего странного в преданности барона Геккерена Жоржу. В 1834 году Дантес-старший имел возможность лично познакомиться с голландским посланником, который, путешествуя в Париж, нашел время заглянуть в Эльзас, на родину Жоржа. С течением времени у барона Геккерена возникла и окрепла мысль легализировать отношения, существовавшие между ним и Дантесом: он решил его усыновить; очевидно, неоднократно он доводил об этом до сведения Дантеса-старшего и, наконец, в начале 1836 года сделал отцу Дантеса формальное предложение дать согласие на усыновление им его сына. Дантес не удивился и согласился. Письмо его весьма любопытно, и некоторые выдержки из него необходимы для обрисовки взаимных отношений этих трех лиц.
«С чувством живейшей благодарности пользуюсь я случаем побеседовать с Вами о том предложении, которое Вы были добры делать мне столько раз, – об усыновлении Вами сына моего Жоржа-Шарля Дантеса и о передаче ему по наследству Вашего имени и Вашего состояния.
Много доказательств дружбы, которую Вы не перестали высказывать мне столько лет, было дано мне Вами, г. барон, это последнее как бы завершает их; ибо этот великодушный план, открывающий перед моим сыном судьбу, которой я не в силах был создать ему, делает меня счастливым в лице того, кто для меня на свете всех дороже.
Итак, припишите исключительно лишь крепости уз, соединяющих отца с сыном, то промедление, с которым я изъявляю вам мое подлинное согласие, уже давно жившее в моем сердце. В самом деле, следя внимательно за тем ростом привязанности, которую внушил Вам этот ребенок, видя, с какою заботливостью Вы пожелали блюсти его, пещись о его нуждах, словом, окружать его заботами, не прекращавшимися ни на минуту до настоящего момента, когда Ваше покровительство открывает перед ним поприще, на котором он не может не отличиться, – я сказал себе, что эта награда вполне принадлежит Вам и что моя отцовская любовь к моему ребенку Должна уступить такой преданности, такому великодушию.
Итак, г. барон, я спешу уведомить Вас о том, что с нынешнего Дня я отказываюсь от всех моих отцовских прав на Жоржа-Шарля Дантеса и одновременно даю Вам право усыновить его в качестве Вашего сына, заранее и вполне присоединяясь ко всем шагам, которые Вы будете иметь случай предпринять для того, чтобы это Усыновление получило силу пред лицом закона».
5 мая (нов. ст.) 1836 года формальности усыновления были завершены королевским актом – и барон Жорж Дантес превратился в барона Геккерена. 4 июня генерал-адъютант Адлерберг довел до сведения вице-канцлера о соизволении, данном императором Николаем Павловичем на просьбу посланника барона Геккерена об усыновлении им поручика барона Дантеса, «с тем, чтобы он именуем был впредь вместо нынешней фамилии бароном Георгом-Карлом Геккереном»[15]. Соответствующие указания на этот счет были даны правительствующему сенату и командиру Отдельного гвардейского корпуса.
К этому времени Дантес уже совершенно акклиматизировался в Петербурге и пустил прочные корни в высшем свете.
Служебное положение Дантеса тоже сильно укрепилось, несмотря на то, что он оказался неважным служакой. Хотя в формуляре его и значится, что он «в слабом отправлении обязанностей по службе не замечен и неисправностей между подчиненными не допускал», но историк Кавалергардского полка и биограф Дантеса, на основании данных полкового архива, пришел к иному заключению. «Дантес, по поступлении в полк, оказался не только весьма слабым по фронту, но и весьма недисциплинированным офицером; таким он оставался в течение всей своей службы в полку: то он «садится в экипаж» после развода, тогда как «вообще из начальников никто не уезжал», то он на параде, «как только скомандовано было полку вольно, позволил себе курить сигару»; то на линейку бивака, вопреки приказанию офицерам не выходить иначе, как в колетах или сюртуках, выходит в шлафроке, имея шинель в накидку». На учении слишком громко поправляет свой взвод, что, однако, не мешает ему самому «терять дистанцию» и до команды «вольно» сидеть «совершенно распустившись» на седле; «эти упущения Дантес совершает не однажды, но они неоднократно наперед сего замечаемы были». Мы не говорим уже об отлучках с дежурства, опаздывании на службу и т. п. 19 ноября 1836 года отдано было в полковом приказе: «Неоднократно поручик барон де Геккерен подвергался выговорам за неисполнение своих обязанностей, за что уже и был несколько раз наряжаем без очереди дежурным при дивизионе; хотя объявлено вчерашнего числа, что я буду сегодня делать репетицию ординарцам, на коей и он должен был находиться, но не менее того… на оную опоздал, за что и делаю ему строжайший выговор и наряжаю дежурным на пять раз». Число всех взысканий, которым был подвергнут Дантес за три года службы в полку, достигает цифры 44[16].
Все эти неисправности не помешали движению Дантеса по службе. Мы знаем уже, что при назначении он получил чин корнета и зачислен был, при вступлении в полк, в 7-й, запасный, батальон. Перевод его в действующий батальон несколько задержался, так как к положенному для перевода из запасной части сроку Дантес еще не знал российского языка. Кажется, российского языка, как следует, Дантес так и не изучил. 28 января 1836 года Дантес был произведен в поручики, и на этом кончились его повышения на русской службе.
Блистательно складывались дела Дантеса в обществе, или, вернее, в высшем свете. Введенный туда бароном Геккереном, молодой француз быстро завоевал положение: он считался «l’un des plus beaux chevaliers gardes et l’un des hommes le plus a la mode» (Одним из самых красивых кавалергардов и одним из самых модных людей (фр.). Своими успехами он обязан был и покровительству Геккерена и собственным талантам. Красивый, можно сказать, блестяще красивый кавалергард, веселый и остроумный собеседник внушал расположение к себе. Этому расположению не мешала даже некоторая самоуверенность и заносчивость.
Отзывы современников не в отталкивающем освещении рисуют Дантеса.
Полковой командир Гринвальд отзывался о Дантесе как о ловком и умном человеке, обладавшем злым языком. Его остроты смешили молодых офицеров. Несколько таких острот сохранил в своих воспоминаниях А. И. Злотницкий, вступивший в полк спустя несколько лет после трагической истории: «Дантес, – по его словам, – видный, очень красивый, прекрасно воспитанный, умный, высшего общества светский человек, чрезвычайно ценимый, как это я видел за границей, русской аристократией. И великому князю Михаилу Павловичу нравилось его остроумие, и потому он любил с ним беседовать. В то время командир полка Гринвальд обыкновенно приглашал всех четырех дежурных по полку к себе обедать. Однажды во время обеда висевшая лампа упала и обрызгала стол маслом. Дантес, вышедши из дома генерала, шутя сказал: «Гринвальд nous fait manger de la vache enragee assai sonnee d’huile de lampe» (Игра слов, основанная на созвучии выражений manger la vache (есть говядину) и manger la vache enragee (терять надежду). Буквально: «Он нас заставил есть бешеную говядину, приправленную лампадным маслом» (фр.)). Генерал Гринвальд, узнав об этом, перестал приглашать дежурных к себе обедать».
В воспоминаниях полкового товарища Дантеса Н. Н. Пантелеева Дантес остался с эпитетом «заносчивого француза»[17].
Другой полковой товарищ, князь А. В. Трубецкой, отзывается о Дантесе следующим образом: «Он был статен, красив; как иностранец, он был пообразованнее нас, пажей, и, как француз, – остроумен, жив. Отличный товарищ».
В полку Дантес пользовался полными симпатиями своих товарищей, и они доказали ему свою любовь, приняв решительно сторону Дантеса против Пушкина после злосчастного поединка.
За свое остроумие Дантес пользовался благоволением великого князя Михаила Павловича, который считался изрядным остряком своего времени и круга и любил выслушивать остроты и каламбуры. Даже трагический исход дуэли Пушкина не положил предела их общения на почве каламбуров. После высылки из России Дантес встретился с Михаилом Павловичем в Баден-Бадене и увеселил его здесь своими шутками и дурачествами[18].
По словам К. К. Данзаса, бывшего секундантом Пушкина, Дантес, «при довольно большом росте и приятной наружности, был человек не глупый, и хотя весьма скудно образованный, но имевший какую-то врожденную способность нравиться всем с первого взгляда… Дантес пользовался хорошей репутацией и заслуживал ее, если не ставить ему в упрек фатовство и слабость хвастать своими успехами у женщин»[19].
Вот отзыв о Дантесе Н. М. Смирнова, мужа известной Александры Осиповны, – человека, отнюдь не благорасположенного к нему: «Красивой наружности, ловкий, веселый и забавный, болтливый, как все французы, он был везде принят дружески, понравился даже Пушкину, дал ему прозвание Pacha a trois queues (Трехбунчужный паша; фр.), когда однажды тот приехал на бал с женою и ее двумя сестрами»[20].
Этих данных вполне достаточно для объяснения светского успеха Дантеса, но он был еще и прельстителем. «Он был очень красив, – говорит князь А. В. Трубецкой, – и постоянный успех в дамском обществе избаловал его: он относился к дамам вообще, как иностранец, смелее, развязнее, чем мы, русские, и, как избалованный ими, требовательнее, если хотите, нахальнее, наглее, чем даже было принято в нашем обществе». По отзыву современника-наблюдателя, «Дантес возымел великий успех в обществе; дамы вырывали его одна у другой»[21].
В свете Дантес встретился с Пушкиным и его женой. Наталья Николаевна Пушкина, затмевая всех своей красотой, блистала в петербургском свете и произвела на Дантеса сильнейшее впечатление. Роковое увлечение Дантеса завершилось роковым концом – поединком и смертью Пушкина.
3
На личности Натальи Николаевны мы должны остановиться. В нашу задачу не входит подробное изображение семейной жизни Пушкина; здесь важно отметить лишь некоторые моменты и подробности семейной истории Пушкина, не в достаточной, быть может, мере привлекавшие внимание исследователей[22]. Для нас же они важны с точки зрения освещения семейного положения Пушкина в конце 1836 года. Обстоятельствами семейными объясняется многое в душевном состоянии Пушкина в последние месяцы его жизни.
Поразительная красота шестнадцатилетней барышни Натальи Гончаровой приковала взоры Пушкина при первом же ее появлении в 1828 году в большом свете Первопрестольной. «Когда я увидел ее в первый раз, – писал Пушкин в апреле 1830 года матери Натальи Николаевны, – ее красота была едва замечена в свете: я полюбил ее, У меня голова пошла кругом»[23]. Но красота Натальи Гончаровой очень скоро была высоко оценена современниками. О ней и об д. В. Алябьевой шумела молва, как о первых московских красавицах. Пушкин, желая похвалить эстетические вкусы князя Н. Б. Юсупова, в известном послании «К вельможе» (дата –23 апреля 1829 года) писал:
Влиянье красоты
Ты живо чувствуешь. С восторгом ценишь ты
И блеск Алябьевой, и прелесть Гончаровой.
Князь П. А. Вяземский сравнивал красоту Алябьевой avec une beaute classique, а красоту Гончаровой avec une beaute romantique и находил, что Пушкину, первому романтическому поэту, и следовало жениться на первой романтической красавице.
История женитьбы Пушкина известна. Бракосочетанию предшествовал долгий и тягостный период сватовства, ряд тяжелых историй, неприятных столкновений с семьею невесты. Налаженное дело несколько раз висело на волоске и было накануне решительного расстройства. Приятель Пушкина С. Д. Киселев в письме Пушкина к Н. С. Алексееву от 26 декабря 1830 года сделал любопытную приписку, – конечно, не без ведома автора письма: «Пушкин женится на Гончаровой, – между нами сказать, – на бездушной красавице, и мне сдается, что он бы с удовольствием заключил отступной трактат»[24]. И когда до свадьбы оставалось всего два дня, «в городе опять начали поговаривать, что Пушкина свадьба расходится». А. Я. Булгаков, сообщивший это известие своему брату в Петербург, добавлял: «Я думаю, что и для нее (т. е. Гончаровой), и для него лучше было бы, кабы свадьба разошлась»[25]. Сам Пушкин был далеко не в радужном настроении перед бракосочетанием. «Мне за 30 лет, – писал он Н. И. Кривцову за неделю до свадьбы. – В тридцать лет люди обыкновенно женятся – я поступаю, как люди, и вероятно не буду в том раскаяваться. К тому же я женюсь без упоения, без ребяческого очарования. Будущность является мне не в розах, но в строгой наготе своей. Горести не удивят меня: они входят в мои домашние расчеты. Всякая радость будет мне неожиданностью»[26].
Свадьба состоялась 18 февраля. Тот же Булгаков писал брату: «Итак, совершилась эта свадьба, которая так долго тянулась. Ну, да как будет хороший муж? То-то всех удивит, – никто не ожидает, а все сожалеют о ней. Я сказал Грише Корсакову: быть ей миледи Байрон. Он пересказал Пушкину, который смеялся только»[27]. Злым вещуном был не один Булгаков. Можно было бы привести ряд свидетельств современников, не ждавших добра от этого брака. Большинство сожалело «ее». С точки зрения этого большинства Пушкин в письме к матери невесты гадал о будущем Натальи Николаевны: «(Если она выйдет за него), сохранит ли она сердечное спокойствие среди окружающего ее удивления, поклонения, искушений? Ей станут говорить, что только несчастная случайность помешала ей вступить в другой союз, более равный, более блестящий, более достойный ее, – и, может быть, эти речи будут искренни, а во всяком случае она сочтет их такими. Не явится ли у нее сожаление? не будет ли она смотреть на меня, как на препятствие, как на человека, обманом ее захватившего? не почувствует ли она отвращения ко мне?»[28].
Злые вещуны судили по прошлой жизни Пушкина. Но нашлись люди, которые пожалели не «ее», но «его», Пушкина. Весьма своеобразный отзыв о свадебном деле Пушкина дал в своем дневнике А. Н. Вульф, близкий свидетель интимных успехов поэта: «Желаю ему быть щастливу, но не знаю, возможно ли надеяться этого с его нравами и с его образом мыслей. Если круговая порука есть в порядке вещей, то сколько ему, бедному, носить рогов, – это тем вероятнее, что первым его делом будет развратить жену. Желаю, чтобы я во всем ошибся»[29]. Е. М. Хитрово, любившая поэта самоотверженной любовью, боялась за Пушкина по другим, благородным основаниям: «Я опасаюсь для вас прозаической стороны супружества. Я всегда думала, что гений может устоять только среди совершенной независимости и развиваться только среди повторяющихся бедствий»[30].
Первое время после свадьбы Пушкин был счастлив. Спустя неделю он писал Плетневу: «Я женат – и счастлив. Одно желание мое, чтоб ничего в жизни моей не изменилось – лучшего не дождусь. Это состояние для меня так ново, что, кажется, я переродился»[31]. Светские наблюдатели отметили эту перемену в Пушкине. А. Я. Булгаков сообщал своему брату: «Пушкин, кажется, ужасно ухаживает за молодою женою и напоминает при ней Вулкана с Венерою… Пушкин славный задал вчера бал. И он, и она прекрасно угощали гостей своих. Она прелестна, и они как два голубка. Дай Бог, чтобы все так продолжалось!»[32] А Е. Е. Кашкина уведомляла П. А. Осипову, что «со времени женитьбы поэт – совсем другой человек: положителен, уравновешен, обожает свою жену, а она достойна такой метаморфозы, потому что, говорят, она столь же умна (spirituelle), сколь и прекрасна, с осанкой богини, с прелестным лицом. Когда я встречаю его рядом с прелестной супругой, он мне невольно напоминает одно очень умное и острое животное, – какое вы догадаетесь, я вам его не назову»[33]. Отмеченный в последних словах, а также в ранее приведенном сравнении Пушкиных с Вулканом и Венерой физический контраст наружности Пушкина и его жены бросался в глаза современникам. Проигрывал при сравнении Пушкин.
Любопытное свидетельство о Н. Н. Пушкиной и о семейной жизни Пушкина в медовый месяц оставил его приятель, поэт В. И. Туманский: «Пушкин радовался, как ребенок, моему приезду, оставил меня обедать у себя и чрезвычайно мило познакомил меня с своею пригожею женою. Не воображайте, однако ж, чтобы это было что-нибудь необыкновенное. Пушкина – беленькая, чистенькая девочка, с правильными чертами и лукавыми глазами, как у любой гризетки. Видно, что она и неловка еще, и неразвязна. А все-таки московщина отражается в ней довольно заметно. Что у нее нет вкуса, это видно по безобразному ее наряду. Что у нее нет ни опрятности, ни порядка – о том свидетельствовали запачканные салфетки и скатерть и расстройство мебели и посуды»[34].
Очень скоро после свадьбы опять начались нелады с семьей жены, заставившие Пушкина озаботиться скорейшим отъездом в Петербург. Пушкин в письме к теще так резюмировал свое положение: «Я был вынужден оставить Москву во избежание разных дрязг, которые, в конце концов, могли бы нарушить более, чем одно мое спокойствие; меня изображали моей жене, как человека ненавистного, жадного, презренного ростовщика, ей говорили: с вашей стороны глупо позволять мужу и т. д. Сознайтесь, что это значит проповедовать развод. Жена не может, сохраняя приличие, выслушивать, что ее муж – презренный человек, и обязанность моей жены подчиняться тому, что я себе позволяю. Не женщине в 18 лет управлять мужчиною 32 лет. Я представил доказательства терпения и деликатности; но, по-видимому, я только напрасно трудился»[35].
Пушкин мечтал «не доехать до Петербурга и остановиться в Царском Селе». «Мысль благословенная! Лето и осень таким образом провел бы я в уединении вдохновительном, вблизи столицы; в кругу милых воспоминаний и тому подобных удобностей», – писал Пушкин Плетневу[36]. Плетнев помог осуществлению мечты поэта и устроил его в Царском. В середине мая Пушкины благополучно прибыли в Петербург и остановились здесь на несколько дней – до устройства квартиры. Е. М. Хитрово сообщала князю Вяземскому о впечатлениях своей встречи с Пушкиными: «Я была очень счастлива свидеться с нашим общим другом. Я нахожу, что он много выиграл в умственном отношении и относительно разговора. Жена очень хороша и кажется безобидной»[37]. Дочь Е. М. Хитрово, графиня Фикельмон, очень тонкая и умная светская женщина, писала тому же Вяземскому: «Пушкин к нам приехал к нашей большой радости. Я нахожу, что он в этот раз еще любезнее. Мне кажется, что я в уме его отмечаю серьезный оттенок, который ему и подходящ. Жена его прекрасное создание; но это меланхолическое и тихое выражение похоже на предчувствие несчастья… Физиономии мужа и жены не предсказывают ни спокойствия, ни тихой радости в будущем. У Пушкина видны все порывы страстей; у жены – вся меланхолия отречения от себя. Впрочем, я видела эту красивую женщину всего только один раз». Предчувствие несчастья не оставляло эту светскую наблюдательницу и впоследствии, в декабре 1834 года она писала князю П. А. Вяземскому: «Жена его хороша, хороша, хороша! Но страдальческое выражение ее лба заставляет меня трепетать за ее будущность».
В двадцатых числах мая 1831 года Пушкины обосновались в Царском и стали жить «тихо и весело». Сестра Пушкина, О. С. Павлищева, жившая в это время в Петербурге, в письмах к мужу оставила немало подробностей о семейной жизни своего брата. Вот ее первые впечатления: «Они очарованы друг другом. Моя невестка прелестна, красива, изящна, умна и вместе с тем мила» («Ма belle- sceur est tout a fait charmante, jolie et belle et spirituelle avec cela bonne enfant tout a fait»). А через несколько дней О. С. Павлищева добавляла: «Моя невестка прелестна, она заслуживала бы более любезного мужа, чем Александр». Спустя 2 Уг месяца она писала: «С физической стороны они – совершенный контраст: Вулкан и Венера, Кирик и Улита и т. д. В конце концов, на мой взгляд, здесь есть женщины столь же красивые, как она: графиня Пушкина не много хуже, m-me Фикельмон не хуже, a m-me Зубова, урожденная Эйлер, говорят, лучше»[38]. Отличное впечатление произвели молодые и на В. А. Жуковского. «Женка Пушкина очень милое творение. C’est le mot. И он с нею мне весьма нравится. Я более и более за него радуюсь тому, что он женат. И душа, и жизнь, и поэзия в выигрыше», – писал Жуковский князю Вяземскому и А. И. Тургеневу[39].
Периоду тихой и веселой жизни в Царском летом и осенью 1831 года мы придаем огромное значение для всей последующей жизни Пушкина. В это время завязались те узлы, развязать которые напрасно старался Пушкин в последние годы своей жизни. Отсюда потянулись нити его зависимости, внешней и внутренней; нити, сначала тонкие, становились с годами все крепче и опутали его вконец.
Уже в это время семейная его жизнь пошла по тому руслу, с которого Пушкин впоследствии тщетно пытался свернуть ее на новый путь. Уже в это время (жизнь в Царском и первый год жизни в Петербурге) Наталья Николаевна установила свой образ жизни и нашла свое содержание жизни.
Появление девятнадцатилетней жены Пушкина при дворе и в петербургском большом свете сопровождалось блистательным успехом. Этот успех был неизменным спутником Н. Н. Пушкиной. Создан он был очарованием ее внешности; закреплен и упрочен стараниями светских друзей Пушкина и тетки Натальи Николаевны – пользовавшейся большим влиянием при дворе престарелой фрейлины Екатерины Ивановны Загряжской. Е. И. Загряжская играла большую роль в семье Пушкиных. Она была моральным авторитетом для племянницы, ее руководительницей и советчицей в свете, наконец, материальной опорой. Гордясь своей племянницей, она облегчала тяжелое бремя Пушкина, оплачивая туалеты племянницы и помогая ей материально.
В письмах сестры Пушкина, О. С. Павлищевой, к мужу мы находим красноречивые свидетельства об успехах Н. Н. Пушкиной в свете и при дворе. В середине августа 1831 года Ольга Сергеевна писала мужу: «Моя невестка прелестна: она является предметом удивления в Царском; императрица желает, чтобы она была при дворе; а она жалеет об этом, так как она не глупа; нет, это не то, что я хотела сказать: хотя она вовсе не глупа, но она еще немного застенчива, но это пройдет, и она – красивая, молодая и любезная женщина – поладит и со Двором, и с императрицей». Немного позже Ольга Сергеевна сообщала, что Н. Н. Пушкина была представлена императрице и императрица от нее в восхищении! В письмах Ольги Сергеевны есть сообщения и о светских успехах Натальи Николаевны. Ольге Сергеевне не нравился образ жизни Пушкиных; они слишком много принимали, в особенности после переезда, в октябре месяце, в Петербург. В Петербурге Пушкина сразу стала «самою модною женщиной. Она появилась на самых верхах петербургского света. Ее прославили самой красивой женщиной и прозвали «Психеей» (Quant a ma belle-sceur, c’est la femme la plus a la mode ici. Elle est dans le tres grand monde et on dit en genЈral qu’elle est la plus belle; on Га surnommee «Psych6e»)[40]. Барон M. H. Сердобин писал в ноябре 1831 года барону Б. А. Вревскому: «Жена Пушкина появилась в большом свете и была здесь отменно хорошо принята, она нравится всем и своим обращением, и своей наружностью, в которой находят что-то трогательное»[41]. Вот еще одно свидетельство об успехах Н. Н. Пушкиной в осенний сезон 1832 года: «Жена Пушкина сияет на балах и затмевает других», – писал 4 сентября 1832 года князь П. А. Вяземский А. И. Тургеневу[42]. Можно было бы привести длинный ряд современных свидетельств о светских успехах Н. Н. Пушкиной. Все они однообразны: сияет, блистает, la plus belle, поразительная красавица и т. д. Но среди десятков отзывов нет ни одного, который указывал бы на какие-либо иные достоинства Н. Н. Пушкиной, кроме красоты. Кое-где прибавляют: «мила, умна», но в таких прибавках чувствуется только дань вежливости той же красоте. Да, Наталья Николаевна была так красива, что могла позволить себе роскошь не иметь никаких других достоинств.
Женитьба поставила перед Пушкиным жизненные задачи, которые до тех пор не стояли на первом плане жизненного строительства. На первое место выдвигались заботы материального характера. Один, он мог мириться с материальными неустройствами, но молодую жену и будущую семью он должен был обеспечить. Еще до свадьбы Пушкин обещал матери своей невесты: «Я ни за что не потерплю, чтобы моя жена чувствовала какие-либо лишения, чтобы она не бывала там, куда она призвана блистать и развлекаться. Она имеет право этого требовать. В угоду ей я готов пожертвовать всеми своими привычками и страстями, всем своим вольным существованием»[43]. Женившись, Пушкин должен был думать о создании общественного положения, Ему, вольному поэту, такое положение не было нужно: оно было нужно его жене. Светские успехи жены обязывали Пушкина в сильнейшей степени, принуждали его тянуться изо всех сил и прилагать усилия к тому, чтобы его жена, принятая dans le tres grand monde, была на высоте положения и чтобы то место, которое она заняла по праву красоты, было обеспечено еще и признанием за ней права на это место по светскому званию или положению ее мужа. Звание поэта не имело цены в свете – и Пушкин должен был думать о службе, о придворном звании.
Если бы в обсуждении планов будущей жизни, в принятии решений Пушкин был предоставлен самому себе, быть может, он имел бы силы не ступить на тот путь, который наметился в первые же месяцы его брачной жизни, но он имел несчастие попасть в Царское Село. На его беду, в холерное лето 1831 года в Царское прибыл двор, пребывание которого там первоначально не предполагалось. Вместе с двором переехал в Царское и В. А. Жуковский. Первые месяцы своей женатой жизни по отъезде из Москвы Пушкин провел в теснейшем общении с Жуковским и подвергся длительному влиянию его личности, его политического и этического миросозерцания[44]. Жуковский жил по соседству с Пушкиным и часто с ним видался; немало вечеров провели они вместе у известной фрейлины А. О. Россет, помолвленной в 1831 году с Н. М. Смирновым. Вместе с Жуковским Пушкин дышал воздухом придворной атмосферы. В том освещении, которое создавал прекраснодушный Жуковский, воспринимал Пушкин и личность императора.
В определении и разрешении жизненных задач, возникавших перед Пушкиным, Жуковский принял ближайшее участие. Он и раньше был благодетелем и устроителем внешней жизни Пушкина; таким он явился и летом 1831 года. Под его влиянием, по его советам Пушкин стал искать разрешения житейских задач и затруднений около двора и от государя. Пушкин должен был получить службу, добыть материальную поддержку. Жуковский всячески облегчал Пушкину сношения с государем; конечно, при его содействии было устроено и личное общение поэта с государем в допустимой этикетом мере. Жуковский был инициатором царских милостей и царского расположения. Он докладывал государю о Пушкине и говорил Пушкину о государе. «Царь со мною очень милостив и любезен, – писал поэт П. А. Плетневу’. – Царь взял меня в службу, но не в канцелярскую, или придворную, или военную – нет, он дал мне жалованье, открыл мне архивы с тем, чтоб я рылся там и ничего не делал. Это очень мило с его стороны, не правда ли? Он сказал: «Puisqu’il est marie et qu’il n’est pas riche il faut faire aller sa marmite». Ей богу, он очень со мною мил». Эти милости, это благоволение, подкрепленные личным общением с государем, обязали Пушкина навсегда чувством благодарности, и росту, укреплению этого чувства как нельзя больше содействовал Жуковский. Впоследствии боязнь оказаться неблагодарным не раз сковывала стремление Пушкина разорвать тягостные обязательства. «Я не хочу, чтобы могли меня подозревать в неблагодарности: это хуже либерализма», – писал однажды Пушкин[45].






