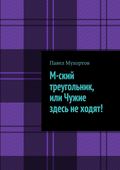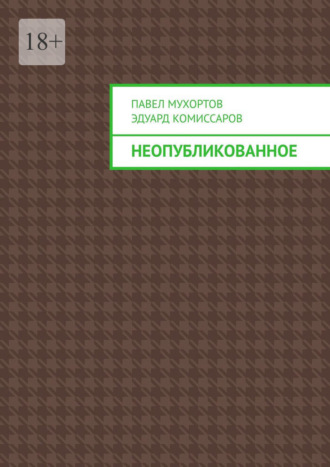
Павел Мухортов
Неопубликованное
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Повесть
Метеорит живет мгновение,
Сгорая в дымной синеве
Его отвесное паденье
Сквозь смерть направлено к земле
И я готов, летя сквозь годы
Метеоритом в синей мгле,
Сгореть, сжигая все невзгоды,
Во имя жизни на земле.
Александр Стовба
Очнувшись от неожиданного, приглушенного равномерным гулом моторов требовательного голоса маленькой стюардессы, желавшей, чтобы пассажир пристегнул ремень, слегка размежив веки, Манько сквозь опущенные ресницы увидел ее, симпатичную, подчеркнуто строгую девушку, склонившуюся над ним, и, улыбнувшись смущенно, пальцами напряженной ладони провел по глазам, окончательно снимая пелену сна, сказал вежливо:
– Все в норме.
И уже потом, зажав тело в страховой пояс, потирая, словно огнем пылающий затылок, оглядывая слабо освещенный, только что пробудившийся салон, шумно оживающий перед посадкой, он понял, что все-таки возвращается, – и что-то болезненное прокатилось в груди.
За холодным, черным иллюминатором медленно плыла белая луна по темному фону февральского неба, прерывисто озаряемому красными вспышками бортовых огней, а под крылом, где-то под плотным слоем прижавшихся к земле облаков, неумолимо приближался притаившийся на холмах древний Львов. Через минуту-другую колеса гулко ударятся о бетонку, тряхнет салон, и неукротимая сила инерции неудержимо потянет его вперед, а потом, при торможении, когда в уши стремительно ворвется резкий рев сбавляющих обороты двигателей, другая сила отбросит его обратно, на мягкую, приведенную в вертикальное положение спинку кресла, и когда гул наконец стихнет, наступит пугающая тишина.
Манько возвращался. Не просто в город, где прошло детство и началась юность, в город с памятником Нептуну 1256 года на безлюдной ночной площади Рынок, с угрюмыми атлантами соседнего дома, поддерживающими карниз на консолях, с глухими, узкими, выложенными булыжником улицам, окутанными сейчас зимней тишиной, с чернеющими громадами величественных куполов костелов, и с улыбающимися под балконами львами. Истосковавшись, он возвращался в родной дом, к матери («Они, конечно, будут рады»), к родным друзьям, к старым привычкам и Манько, не скрывая переполняющей радости, уже представлял их счастливые лица.
«Когда ж это было? Лет десять назад? Или раньше, в классе пятом, когда с родителями переехал из Куйбышева во Львов? Быть может. И у меня тогда осталось чувство необъятного, и неудобно казалась бугристая дорога, и львы вроде скалились, но мне совсем нестрашно было поздно вечером бродить по запутанным безлюдным улочкам, и львы потом, как сильные покорители, показались мне добрыми».
И он вспомнил, что месяц спустя поразился всему в городе: планировке, которая была даже очень рациональной, потому как изучив центр, переходы, в считанные минуты можно попасть в любую желаемую точку, и узеньким рельсам, по которым с грохотом разбитых колымаг ползли экстравагантные для туристов старые трамваи, и гармоничной сочетаемости строгих, словно отточенных форм сооружений и честности линий с вольным и независимым их расположением. И еще поразился он буйству зелени, грандиозности Стрийского парка, всегда свежего и чистого. И когда, взобравшись на труднодоступный пятачок – никогда не пустующую площадку обозрения, увенчавшую собой гору с поэтическим названием «Высокий замок», и когда его взору внизу открылся весь Львов, потонувший в дымке, кое-где еще золоченый косыми лучами заходящего солнца, он улыбнулся этим шпилям, островерхим черепичным крышам, кварталам, зажатым двумя линиями гор, как теплыми ладонями человека, и крикнул в душе: «Город! Я люблю тебя!» И Львов приветливо ответил ему звоном часов городской ратуши.
И вдруг Манько ощутил странный приступ тягостного удушья, и несмотря на прохладную струю воздуха, вырвавшуюся из открытого вентиля возле лампочки индивидуального пользования, несмотря на расстегнутый ворот рубашки, его обдало раскаленной волной нестерпимого зноя, и вмиг почудилось, что так же, как два года назад, так же нестерпимо хочется пить, и снова пошатываясь, идет он в невыгоревшей панаме, в разодранном маскхалате, в горных ботинках с ребристой подошвой в колыхающемся строю мимо длинных щитовых казарм, окрашенных в желтый цвет, и на тонких веточках редких деревьев такие же желтые свивают свернувшиеся от жары листья, и повсюду, куда ни кинь взгляд расстилается невзрачный желтый пейзаж.
Это был первый, особенно запомнившийся день в школе сержантского состава, затерявшийся в бесконечных песках Средней Азии. Совсем недавно Манько казались эти мрачные, несколько сдержанные, немногословные ребята почти дядями, и втайне он мечтал встать вровень с ними, но, понимая, что трудности непременно будут подстерегать его, потому как это служба, притом в необычных условиях, все-таки надеялся, что вопреки рассказам бывалых о службе там, об операциях с душманами, ему будет легче. И когда потом под неусыпным наблюдением офицера или сержанта-инструктора полз по-пластунски вместе с другими новобранцами, расставляя мины, или, копаясь в устройстве учебных (китайского, итальянского, американского производства), систем, изучал их, а затем снова минировал, разминировал, опять же ползком, на пузе, от мины к мине, и, пропотев от жары и бега, снова с трудом брал в непослушные напряженные руки миноискатель, чтобы ползти, ставить, маскировать, и снимать эти вроде безобидные, но коварные «игрушки», то понял, что постичь обманчиво простую науку – науку виртуоза сапера, человека, у которого нет права на ошибку, – непомерно сложно.
«Когда ж это было?» – вновь подумал Манько, пугаясь, – Как будто два дня назад». Подготовка в «учебке» насыщенная так, что абсолютно не оставалось времени для раздумий и анализа прожитых дней, и последующий провал в памяти, где часы казались днями, свет тенью, а дни неделями, сливавшимися в общую вереницу шести месяцев, и затем – запечатленное в памяти апрельское утро, когда АН-24 взял курс на Кабул, где дальше должна была проходить его служба, – все это вместилось в сознании лишь в два дня, Манько мыслями неизменно возвращался вспять к дню последнему. Но тогда он еще должен был дожить до него, не сломаться, переплавиться. И сейчас, вспоминая то апрельское утро, когда сидя в глубоком кресле в уютно подогнанном обмундировании младшего сержанта, пристально наблюдал, как постепенно таяли, исчезали за синим искрящимся кругом иллюминатора полосатые хребты, окутанные туманом, отгородившие его от своей земли за границей, еще не зная, что долго-долго не увидит ее, именно сейчас, именно в эту минуту, спустя полтора года нечто более сильное, чем трепетное волнение в апреле. И подумалось Манько, что Родина, родник, род (в этих словах, где везде корень «род», и в нем собрана вся мощь этих слов) вбирает в себя гораздо большее, беспредельно широкое, святое и чистое, чем место где родился. Какая разница, что будет за корень? От этого не изменится гордое, впитанное в кровь и плоть человека притяжение к Своей Земле, на которой он вырос и не только понял, но и каждой клеточкой тела, каждым кончиком нерва ощутил, что без этой частицы – Родины не сможет существовать, просто существовать, не то чтобы жить.
Как можно верить, – думал между тем Манько, – в броваду эмигрантов, будто сладко им на чужбине?! Пусть у них все есть: достаток, коттедж, лимузин, пусть спят они без кошмаров, не просыпаясь по ночам, сытно, с аппетитом едят, но снится им, – и в этом он не сомневался, – то место, где они пусть даже голодали и не могли заснуть от холода. У них когда-то была Родина. Не важно – Россия, Бразилия, Гренландия или Ангола. Верить космополиту?! Да он не просто кочует, он лежит, бежит в ужасе от того, что навсегда потерял и никогда не сможет найти. А что такое моя Родина, та, которая дала мне все?
Моя Родина… – это, как живительный глоток влаги для умирающего в пустыне. Как нам не хватало ее там! Мы задыхались не от жгучего воздуха песков, нет, а от того, что оказались вдалеке от Родины. И в то же время мы не задохнулись, потому что от нас она потребовала сделать так, чтобы другой народ тоже обрел свою родину. Потому мы и делали все возможное и даже невозможное. Но, черт, трясет, всего трясет, как в Ташкенте, где сразу было столько русской речи, целое море. Я мог слушать ее сколько угодно, с трепетом, в устах совершенно незнакомых людей, наслаждаться, как поражающей гармонией музыкой, песней. Там тоже говорили на русском, но только мы и только слова приказа, опасности, тревоги или смерти. Родной дом, отец, мама, братишка, – это тоже часть от меня, начало всей Великой любви. Сейчас мама скорее всего расплачется. Сколько она пережила за это время? Что я? Солдат Отчизны, а она мать. Больше, больше, миллион раз больше! Может, ростом стала ты чуть ниже, может, прибавились морщинки на твоем добром лице, и лишняя прядь седых волос. Может быть. Выдержу ли я? Отец – ты суров даже в своей отцовской любви. Я – это ты, как ты – это я. Меня ты крепко обнимаешь… Братишка. Вероятно, он увидит меня завтра, будет спать, а утром, конечно, обидится за то, что не разбудили, но все равно повиснет на шее, обхватив руками и ногами, как обезьянка. Да… Выдержу ли я?»
С неимоверным протяжным гулом самолет бросается на взлетно-посадочную полосу, обозначенную по бокам в ночи яркими фонарями – в глазах Манько они разделяются на длинные желтые зигзаги, – скрипит, подрагивает, а оживленные пассажиры всматриваются в темноту. И после того, как стюардесса объявила, что самолет произвел посадку, а за бортом – минус четыре, после того, как томительно долго не подавали трап, а потом подали наконец и открыли дверь – оттуда сразу потянуло прохладой, сыростью, и тот же голос пригласил на выход, и все, толкаясь, застегиваясь, надвигая шапки, поспешно потянулись туда, Манько, наспех накинув шинель, словно очнувшись, также засуетился, пробираясь к трапу, еще пытаясь осознать, еще не веря окончательно в то, что вернулся. Стоило на секунду задуматься, как вновь начинало казаться, что в шероховатом бронежилете он, тяжело ступая во главе колонны, осторожно поднимается по горной тропе круто вверх, и лишь марево зноя колышется над дикими скалами, да с сухим шелестом осыпаются выбитые подошвой мелкие камни. И чувствуя, что сейчас не выдержит, и то, что пережито и передумано напролет дни и ночи, не сдержавшись хлынет из него, боясь по-детски расплакаться, все повторяя: «Неужели?» и дрожащей рукой скользя по перилам, всех опережая, Манько быстро спустился вслед за пилотами, но прежде чем ступить на стылый бетон, по которому извивалась поземка, нервно запахнув развернутые ветром полы шинели, задержавшись на последней ступеньке трапа, он огляделся внимательно и несколько раз подряд, глубоко, вдохнул терпкий, пахнущий керосином и еще чем-то до боли знакомым морозный воздух.
В ушах еще звенело от непривычного полета, когда Маш получил «дипломат» и, отвернувшись от противного ветра, завывающего в макушках деревьев, поеживаясь, торопливо вышел, слегка прихрамывая, из крытой металлической клетки багажного отделения, на ходу натягивая, связанные мамой варежки. Остановился, пытаясь разом окинуть взглядом площадь, и снова, все убыстряя шаг, двинулся по направлению к стоянке такси.
Дорога была пустынна, машины с зеленым глазком не появлялись, и Манько, прислонившись к черному корявому стволу каштана, вытащив из кармана помятую пачку папирос «Курортных», решил подождать, покурить и успокоиться. Затылок по-прежнему нестерпимо жгло. Туманным взглядом он неотрывно смотрел на пленительно горящие белые фонари, на широкие окна полупустого здания аэропорта, на одиноко стоящие с незажженными фарами едва припорошенные снегом автомобили, на тир, куда частенько забегал когда-то пострелять, с сожалением отмечая, что здесь ничего изменилось за время его отсутствия, как будто никуда он не уезжал. Горячий дымок недокуренной сигареты струился, жег ладонь, а он, задумавшись, утомленно сопровождая глазами извивающуюся поземку, хмурился, но подспудно, подавляя неудовлетворение, рождалось другое чувство, которое он не смог бы точно объяснить, но которое испытал однажды, стоя на смотровой площадке «Высокого замка».
Ветер бился, свистел, просачиваясь сквозь щели одежды, просторные рукава, подбираясь к телу, леденили его, однако Манько не ощущал холода и с непроходящей болью думал о том, что ему, пожалуй, повезло, что тот осколок свободно мог лишить жизни, но организм выдюжил, тогда как там, за изломанной грядой горных вершин, где опаленный смертельным зноем и огнем оружия человеческого колышется сухой ковыль, и длинные тени ложатся в ущельях, сложили головы многие товарищи, и, вспоминая, как не мог поначалу привыкнуть к этим чудовищно несправедливым смертям молодых ребят, видя, как из искореженного БМП с оплавленными по краям дырами, прожженными из гранатомета кумулятивной струей, вынимали обгоревшие тела экипажей, как всякий раз при этом, кусая губы, в горле сдерживал стоны и в каком-то беспамятстве повторял исступленно: «Мы отомстим за вас» – и мучился от того, что выполнял сугубо мирное дело – спасал другие жизни, сейчас Манько снова и снова спрашивал себя, зачем вернулся.
«Что это со мной? Я словно не рад, что выжил и вернулся? Неужели это чувство надолго? Неужели я все время буду мучиться от того, что обязан перед ними, невернувшимися? Нет, действительно, возвращаются не куда-то, а, скорее, для чего-то. Тогда для чего я вернулся? Для чего?»
«Жигуленок», с жужжанием вывернувшийся из темноты на секунду, ослепил его светом фар, заставив машинально прикрыть глаза варежкой, притормозил рядом. За откинутой дверкой показалась голова хозяина.
– Слышь, солдат! Тебе куда?
– На Майоровку…
– Садись, подвезу.
– Благодарю.
Едва лишь Манько сел в теплый салон и пальцем утопил флажок дверной защелки, а машина тронулась, как неуемное нервозное чувство близости позабытого дома с новой силой нахлынуло на него, и в зеркале, нисколько не удивляясь, Манько увидел, как влажно заблестели собственные глаза.
Все было ошеломительно – и внушительная медицинская комиссия, еще утром подписавшая бесповоротный приговор о негодности, и преждевременная в связи с дополнительным поступлением больных и за отсутствием мест выписка из санатория, и чересчур скорое освобождение из плена душных белых палат, и головокружительное длительное пребывание на свежем воздухе, и удобный рейс, позволивший не потерять ни минуты, и удачно купленный за пята минут до конца регистрации кем-то сданный билет, и полуторачасовой полет – все это было настолько ошеломительно, возбуждающе, так теснилось в груди, что безумное прошлое возникало в сознании Манько в виде беспрерывных картин. Эти картины появлялись навязчиво, одна за другой, в невсегда понятной форме, и Манько, отыскивая в них что-то знакомое, угадывая его, по запоминавшимся деталям, пытался осмыслить все то, что произошло ним. Он понимал, что вернуться оттуда неизменившимся, и с невыразимо сладким, захватывающим дыхание чувством, с этим безотчетным чувством радости, прислушиваясь к певучему шуршанию колес под днищем скользящих по мокрому блестящему асфальта он вдруг подумал: «Какое это все-таки огромное счастье – почувствовать себя частью родного города!» И с жадным, безоглядным, почти детским удивлением вглядываясь в проносящиеся за ветровым стеклом предрассветные улицы Львова, Манько видел все обновленное, чистое, белое и дрожал от волнения. Еще непривычно реза слух в этом уснувшем тихом квартале звук удаляющейся машины, еще непривычно было видеть, как на перекрестке скромно мигает желтый глаз светофора, отражаясь в глянцевых витринах и оконных стеклах, когда Манько, варежкой утирая на лбу и шее обильный пот, притаптывая рыхлый снежок, подошел с затаенным дыханием к своему дому.
«Куда так рвется сердце? Надо успокоиться, прежде чем войти. Подъезд. Родной. Какой неописуемый восторг. Хочется погладить эти стены. Двери, двери, знакомые, обшарпанные. Вот и моя. Боюсь звонить, хоть садись на лестницу и утра дожидайся. Но мама скорее всего не спит, она ждет. Она непременно слышит мои шаги, точно слышит. Она чувствует мое приближение.
За дверью прошаркали домашние тапочки. «Это мама. Это шаги мамы. Я же чувствовал, что она не спит!» – и срывающимся от волнения, хриплым голосом он закричал:
– Мама!
– Сыночек! Генушка!
Дверь распахнулась, и щемящий звук ее голоса, и знакомый запах квартиры, который ни с чем не спутать, запах из детства, врезавшийся в память, так подействовал на растерянного Манько, что на какое-то мгновение, оцепенев, он застыл перед матерью, словно не веря в волшебный сон. А мать смотрела на сына широко раскрытыми глазами, не в силах вымолвить ни слова, и на краткий миг, не совладав с собой, чувствуя, как предательски щиплет глаза, Манько дал волю скатиться по щекам двум слезинкам.
Генушка. Высокий. Похудел. Все те же кудрявые волосы, только на висках седина чуть съела юношеский блеск. Нос, длинный, чуть курносый, заострился, стал тоньше. Веснушки заметны; голубые глаза, они прежние – добрые, веселые; страшный синевой тонкий шрам от ямки на правой щеке к уху; родинка на шее, легко взятая нежным пушком; красные от мороза, слегка оттопыренные и потому несуразные уши.
Манько выпустил из рук чемодан, бросился к матери, прижал крепко к груди, продолжительно поцеловал, и по щеке Геннадия снова потекли слезы – мамины слезы.
– Генушка! Наконец-то… А я все уснуть не могу… Генушка! Наконец-то…
– Мама, ну что ты плачешь? Все ведь в порядке. Я… Перестань, мама…
– Я от счастья, сыночек. От счастья… Ну что же мы здесь? А? Проходи, раздевайся. Отец!
Одной рукой обнимая маму – она еще не выпускает сына из своих объятий – другой Манько до боли пожал шершавую без указательного пальца ладонь отца. «Братишка. Он проснулся, он тоже здесь, бесенок, подобрался сбоку».
– Ну что мы здесь? Проходи, проходи, сыночек, – мама говорит не переставая. – Дверь закрывайте. Давайте в комнату. Сережка!
Скатерть на стол. Давай быстрее! Ты голодный, сыночек? Чего спрашиваю? Конечно, голодный. Нет, сначала в ванну. С дороги, устал. Или спать хочешь? Генушка…
– Мама, мама, – Манько улыбается, тело дрожит, – сначала душ, мама, а потом мы будем говорить долго-долго, пока не уснем. Наговоримся за все эти месяцы.
В своей комнате Манько по-солдатски быстро разделся и, вспомнив, что на теле остались следы ранений, испуганно накинул на голое тело халат, в голове мелькнуло: «Лучше, чтобы мама не видела пока, чтобы ничто не омрачало радость встречи».
Манько скрылся в ванной, задвинув щеколду, включил воду, и тотчас облегченно вздохнул, скинул халат – на обнаженной спине отчетливо выделялись страшные, как и шрам, своей синевой скрученные бугорки кожи. Пять бугорков, где засели тогда пять осколков. «Но это ерунда, – подумал Манько и повернулся спиной к зеркалу, – а вот здесь. – Он приложил ладонь к шее и медленно повел к затылку: – Здесь незаметно, но в этом-то вся беда. Этот осколок не вытащили. Значит…»
Теплая, полная воды ванна влекла, Манько погрузился в нее, испытывая наслаждение, блаженно вытянул ноги, разлегся, но что-то ненормальное будоражило нервы. Из крана продолжала бежать, булькая, струйка. «Ага, вода! Как? Вода свободно уходит?» – он машинально закрутил кран.
Теперь он знал, как пахнет обыкновенная вода, невесомая, ласковая, и когда страдал от жажды, с неимоверным усилием ворочая разбухшим языком, то всякий раз мысленно дотрагивался рукой до этой струйки, потом разжимал зубы, приближал разгоряченное лицо, подставляя сначала растрескавшиеся горящие губы, потом пересохший рот, и с жадностью, захлебываясь, давясь, до дурноты, до ломоты в зубах, глотал и глотал ее, пока не подкатывала тошнота.
«Вроде бы за четыре месяца, что был там, не произошло ничего особенного. Но ведь что-то было? Не зря же в госпитале не мог спать раздетым, не мог уснуть, пока не надевал пижаму и ложился прямо в ней, ведь не даром от малейшего шороха, от шума за окном вскакивал по ночам и потом лежал до утра с открытыми глазами не в силах уснуть, ведь не просто так все эти ночные крики и бред таких же, как я», – и, изнемогая от неразрешенных до конца вопросов, Манько морщил лоб, безуспешно пытаясь что-то вспомнить, но в памяти все действительно сплыло и слилось в единообразный, нескончаемый день – в последний день там…
Было шесть часов, августовское утро, вокруг топорщились камни, в звенящей, зловещей тишине незримо подкрадывалась сгущенная духота, когда в глухом, без каких-либо признаков жизни ущелье, заминированном душманами, продолжалась длящаяся почти трое суток операция. Растянувшись по тропе уступом влево взвод саперов медленно продвигался вперед, а позади, так чтобы все были в поле зрения, шел Манько. Группа прикрытия, стерегущая на случай внезапных выстрелов каменистые складки гор, замыкала эту живую змейку, и окружающий их нереальный, как в сказке про злых колдунов или на безжизненной далекой планете пейзаж был наполнен стуком металла, громкими голосами.
Палило нещадно, мучительно давило жестокими лучами солнце, стиснув зубы, расчетливо-спокойно, сосредоточенно работали запыленные, с грязноватыми потеками пота на лицах, со слипшимися волосами саперы. Тип мин определили сразу – противопехотные, итальянского производства, поставленные на неизвлекаемость со зверской задумкой: взрываются через несколько секунд после воздействия, чтобы увеличить потери и вызвать панику, – и Манько, хватая ртом жгучий воздух, стараясь не думать о прохладных Карпатах в Союзе, шел в каком-то тягостном предчувствии этого взрыва.
Внешне он был спокоен. Он давно научился быть спокойным, чтобы вовремя принять нужное решение (страх леденил тело лишь несколько дней четыре месяца назад), но на душе оставалась тяжесть.
«Что заставляет меня и ребят идти на грани смерти? Сознание долга перед сзади идущим? Или просто – желание выполнить рискованную работенку? Или совокупность всех «надо» и «обязан»? Манько знал, что каждый, кто выполнял присягу, был здесь, выполнял ее на совесть и, ежедневно встречаясь со смертью, злодеяниями душманов, неудобствами и лишениями, не терял человеческого в себе, не вбирал звериного. Он и сам почувствовал, как накипь дури, которую привез с собой с гражданки, здесь моментально выбило, а взамен ее впитался какой-то порыв, одержимость, новь, и на глазах в душе родилось то, что было когда-то у молодежи двадцатых.
«Какой неприятный скрежет. Камни что ли? Хуже, чем пенс пласт по стеклу. Когда же конец этой тропе?… потом будут новые потом… Взводный подхватил желтуху… все на мне. Проклятая жара. Когда же отключиться этот солнечный рефлектор? Скрежет выводит!»
…Манько вздрогнул, рука вылетела из воды, и он с силой, так, что брызги ударили в лицо, хлопнул по ее поверхности, по телу пробежал холодок. И вдруг Манько явственно представил, как paздался невыносимый, бесконечно продолжительный треск за спиной, как все оглянулись и с ужасом посмотрели на него, а он только почувствовал, как из-под ног убегает земля, переворачивается, как пронеслись склоны гор, и перед глазами взошло безупречно голубое высокое небо, этот раскаленный до бела шар, который то приближался, то удалялся, то двоился, то вертелся, и затем наступила сплошная темнота. «Когда же очнулся? Черт его знает. Но не помню больше афганской земли, не помню месяца в Ташкентском госпитале, смутно все, русская речь только запомнилась… в Тбилиси уже… За моим окном росло огромное кизиловое дерево. Там же начал ходить, и каждое движение – как острие ножа в голову… Курорт Саки. Бархатный сезон. Море. Море воды. Песчаные пляжи. Только мы там были не отдыхающими. Сколько было там наших? Я ходил уже с тростью, а ребята лежали без ног… Мне опять повезло. Прекрасные крымские пейзажи. Но почему они отпечатались серыми красками? Разве в ущелье больше цветов?
– Стол готов, Генушка! Сыночек! Ты скоро? – голос мамы за дверью вернул в настоящее.
– Да-да, я сейчас…
С момента приезда минула неделя. Теперь Манько иногда вспоминал, что радовался этому возвращению слишком долго и оттого, что родные лица, привычная домашняя обстановка, двор ежечасно окружали его и оттого, что вновь бродил он по заснеженным светлым улицам любимого города, которые казались еще прекраснее, оттого, что жестокие бои в горах, засады, обезвреженные мины, очищенные километры дорог, песков нестерпимый жар, жажда, голод – все это, к счастью, закончилось, на душе было очень тепло и покойно. Новый период в юности, когда исполнилось только двадцать с хвостиком лет, обещал много хорошего, и Манько, необычно возбужденный, находился в странном лихорадочном ожидании какого-то случая в судьбе, и жил, подгоняя время, чувствуя, как растет, ширится в нем заряд любви и доброты ко всем людям. Но чем дольше длились сладостные минуты радости, тем чаще преследовали его необъяснимые, болезненные приступы тоски. Чего-то не хватало, душа настойчиво просила, требовала, и поздними вечерами, сидя в темной кухне близ зажженной газовой плиты с неприкуренной сигаретой в пальцах, он неотрывно смотрел на потухающий в запотелом окне свет домов через дорогу напротив, опять-таки словно ожидая, сам не зная чего.
Временами он думал над тем, что прежде жил бессмысленно, без забот и цели, помнится, увлекался. «Не о чем вспомнить, разве что о мелочах. Странно, как глупо и попусту человек расходует отпущенный ему срок? Я вроде любил, но если перед самим собой быть честным, то ничего не было, как и того адреса девушки, о котором я всякий раз говорил ребятам перед боем. Но ведь есть нескончаемое время, существую я в нем, несмотря ни на что, пройдя сквозь огонь и смерть. Каждому поколению, видимо, пришлось выдержать свое», – думал он, испытывая нарастающее угнетение, и, вспомнив рассказ таксиста-десантника о том, как в Чехословакии вспыхнул революционный мятеж, отчетливо представив закрытые окна домов в Братиславе и в темных, спящих переулках хлесткие выстрелы, до содрогания представив привязанного к дверям почты и зверски разорванного молодого солдатика, он вдруг горько отметил, что слушал тогда таксиста с явно притупленным ощущением, также, как потом и двоюродную сестру, у которой в схватке с китайскими лазутчиками на границе погиб жених. И поймав себя на мысли, что в событиях на Даманском и в стреляющей Братиславе враг казался вдалеке, расплывчиво, пока сам не столкнулся лицом к лицу в Афганистане, Манько озадачился: что тогда мешало воспринять близко к сердцу боль таксиста, трагедию сестры? И отвечая, он все пытался избавиться, высвободить душу от налегших на нее тягостных вопросов, совсем не предполагая, что через неделю ровно тихо вкрадется, вселится в него неизлечимая тоска. Та тоска по ребятам, делившим между собой пополам сухарь из сухпая и два глотка воды из теплой пустой фляги, по трудном опасному делу на крутых горных серпантинах, где к гибели ведет малейшая неосторожность, та тоска, которая все-таки подступит незаметно, охватит полностью и, как непроходящая ноющая боль в затылке, будет медленно изнурять, истреблять его по частям, и не верилось, до кривой улыбки на губах не верилось, что именно она поможет найти верный ответ, все ответы.
Целую неделю Манько неутомимо разыскивал одноклассники», он жаждал встреч, жаждал общения, но ребята либо еще служили, либо в суматохе обычной студенческой сессии тратить на разговоры лишней минуты не желали, девчонки же, большей частью успели выйти замуж, сменить адреса, фамилии, а тех, что не поддались искушению семейной жизни дома застать было трудно, и раздраженный, злой, часами скитаясь по улицам в одиночестве, Манько уже согласился с тем, что их ничто не связывает. Но изредка встречая кого-нибудь в автобусе или на улице, он не радовался, потому что замечал частенько в глазах скользкое холодное выражение. Он обзвонил абсолютно всех, кого знал, пробуя договориться о встрече, но мало кто согласился, на том конце провода в лучшем случае сочувственно поддакивали, возможно, что кивали головами, но потом, отыскивая самые разные, порою невероятные предлоги, чтоб их только оставили в покое, решительно отказывались, – и стоило лишь вообразить эти страдания в поисках общения, как Манько чувствовал почти безвыходную тоску. Поэтому, когда отец, как бы невзначай заводил речь о ребятах, Манько предпочитал отмалчиваться или же иронично восклицал, что не намерен врываться со своими военными взглядами в розовые юношеские мирки, потом был угрюм и замкнут.
«До чего страшно ощущение этого одиночества – его пустоты, его застывшего времени, его безвыходности, – в отчаянии думал Манько. – Где же те люди, с которыми смогу поделиться всем, чем живу?» И все же отлично понимая, что никто сию минуту не явится к нему, чтобы поговорить, поспорить, просто выслушать, Манько не мирился.
Однажды зябким хмурым вечером, когда колко хлестал по лицу снег, кутаясь в куртку, стоял расстроенный Манько, дрожа и сутулясь, на троллейбусной остановке, курил, нервно покусывая фильтр сигареты, оглядывая ожидающих транспорта людей, которые также как он, сжимались, отворачивались от пронизывающего сырого ветра, как вдруг ему показалось, что над шапками, платками, шляпами и толпе пупом возвысился и пропал мужской черный зонт («Зон среди зимы?!), но снова раскрылся и поплыл, покачиваясь, прыгая, приближаясь.
Манько видел, как ошарашенно, недоуменно, но и не без интереса набщлюдали за ним люди, впрочем, на лице обладателя «трех слонов» следов смущения не обнаруживалось, напротив, была некая снисходительность, жалость к окружающим, надменность. И Манько разозлившись внезапно, как будто получил вызов, схватив юношу, когда тот поравнялся с ним, за рукав, остановил.
– Чего тебе дед? – огрызнулся тот.
– «Ну и хам!» – возмущенно подумал Манько, а вслух произнес: – Хотел узнать, зачем тебе зонт?
– Знаешь, – парень лет семнадцати, симпатичный на вид довольно бесцеремонно и продолжительно осмотрел Манько, затем нажимая на окончания, сказал, – дед, это, конечно, не защита от снега, просто содержу в чистоте и сухости свою совесть.
– Да?!
– А что? Пояснить?
– Попробуй.
– Ты, надеюсь, смыслишь в философии? Бытие определяет сознание. А вокруг столько грязи, и она все липнет, все летит на голову, так что избегая дурного воздействия, прикрываюсь, дабы не видеть и сохранить в чистоте сознание.
– А-а-а, от жизни уходишь.
– Нет, дед. Живу с чистой совестью и весело, надо сказать живу.
Либо Манько ему чем-то понравился, либо парень не пожелал упускать возжности поразмыслить в очередной раз о себе, о жизни, но с непостижимой легкостью он предложил Манько прокатиться в новый район города, обещая веселый вечер и знакомство с интересными людьми, и Геннадий выслушав внимательно и скупо поблагодарив, согласился.