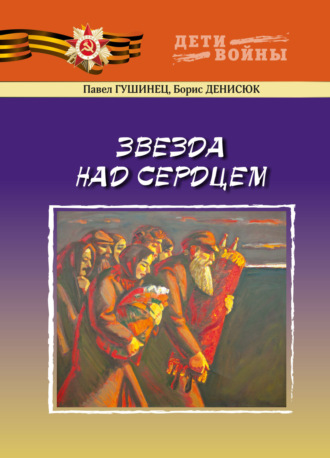
Борис Денисюк
Звезда над сердцем
Весной 1942-го Смоленское гетто было уничтожено. В одну страшную ночь немцы убили больше двух тысяч человек.
В 1943 году смерть дышала Полине в затылок. Разозлённые поражениями на фронте немцы, обыскивали дома, искали прячущихся евреев и расстреливали их на месте. Убивали и русские семьи, которые их прятали. Полина с другими молодыми парнями и девушками ушла в лес.
25 сентября 1943 года на их лагерь наткнулись разведчики Красной Армии.
Полина Аускер дожила до 1973-го. О судьбе спасшего её австрийского офицера она ничего не знала.
3 февраля 1997 года организация «Яд Вашем» удостоила Евгения и Евдокию Лукинских почетного звания «Праведник народов мира».
Рема
Рема Асиновская-Ходасевич
(п. Зембин рядом с Борисовом, 18 августа 1941 г.)
Всё происходящее казалось Реме каким-то ужасным сном, который никак не хотел заканчиваться. Брат, которому едва исполнилось четыре года, сжимал её руку, громко кричал и плакал. Рема стояла как парализованная, не в силах пошевелиться. А чужие страшные люди закидывали яму, в которой лежала их мёртвая мать Хася Ходасевич, землёй.
По краю огромной могилы, заполненной трупами, вышагивал учитель Давид Эгоф. Поглядывал на детей с недовольством. Наконец двинулся в их сторону:
– Ну, чего стоите? Вам же сказали – идите домой.
Рема посмотрела на него с недоверием. По лесу ещё разносилось эхо выстрелов. Между вершинами деревьев, словно чёрные птицы смерти, кружились последние крики людей. Все жители гетто – большого белорусского посёлка Зембин – лежали сейчас в этой яме. Куча земли быстро росла. И из всего гетто оставало всего двое живых. Рема и её маленький брат.
– Куда же нам? – прошептала Рема.
Бывший учитель немецкого языка, а теперь бургомистр, равнодушно пожал плечами:
– Не моё дело. Идите, пока живы. Или тоже в яму захотели?
Рема отчаянно замотала головой и потащила брата в лес. Тот упирался, не хотел идти, просился к маме. Рема не могла объяснить ему, что мамы больше нет. И никогда не будет. Что они теперь одни на целом свете.
Немцы заняли Зембин с ходу, в первые дни июля. Фронт не успел толком прокатиться по окрестностям. В лесу слышали выстрелы, мальчишки нашли полдесятка брошенных винтовок и остатки окровавленной советской формы. А уже через неделю фронт откатился и громыхал так далеко, что о нём напоминали только чужие серые солдаты, хозяйничавшие в домах, словно у себя дома.
Почти сразу жителям Зембина объявили о том, что всех евреев переселяют в дома вдоль Рабоче-крестьянской улицы по приказу начальника службы безопасности (СД) города Борисова Шенемана. Люди подняли было ропот, не хотели переезжать с насиженных мест, но им тут же объявили, что все, кто не послушается приказа, будет расстрелян.
Переселенцам не дали толком собраться. Гнали по улице пинками, прикладами. Люди бежали, теряя вещи, спотыкаясь и падая. Кричали и плакали дети.
В дома вдоль Рабоче-крестьянской улицы набились как селёдки в бочку. Из всего населения Зембина евреи составляли большую часть, а тут их затолкали на окраину. Спали на полу, на чердаках и в подвалах. Спали сидя, вжимаясь спинами в углы хат.
Появилось новое начальство. Глава службы безопасности (СД) города Борисова Шенеман, служащие гестапо Берг и Вальтер, комендант города Борисова Шерер, комендант Зембина Илек, переводчик Люцке, бургомистр Зембина Давид Эгоф, начальник отделения полиции Зембина Василий Харитонович, его заместитель Феофил Кабаков и полицейские из местных жителей: Алексей Рабецкий, Константин Голуб, Григорий Гнот, Константин и Павел Анискевичи, Яков Копыток.
Полицаи ходили по домам, выгоняли на улицу жителей, обыскивали. Если находили то, что понравится, забирали себе. Григорий Гнот заглянул в дом, в углу которого с двумя детьми ютилась Хася Ходасевич.
– Ну-ка, жиды, выворачивайте карманы!
Григорий был сильно пьян, его покачивало. Глаза белые, почти невидящие. И от этого винтовка в руках была ещё страшней. На сбившихся в плотную кучу людей словно смотрело три глаза. Два слепых, залитых алкоголем, и один мелкий, чёрный, хищный, несущий смерть.
– Кому сказал! – Гнот выхватил из кучи старика Шендерова, потащил его за собой во двор. Ветхий дед даже не сопротивлялся, повис на руке полицая и только громко, протяжно вздыхал. Видимо, боялся даже вскрикнуть.
– Гоните деньги, иначе застрелю старого козла! – заорал Гнот.
Швырнул старика на землю, пнул сапогом.
– Даже до трёх считать не буду. Пристрелю и всё тут!
– Нет у нас денег, – подала голос одна из женщин. – Вы же всё уже забрали.
– А вы пошукайте получше! – захохотал Гнот и протянул к женщине трясущиеся лапы. – Или мне самому пошукать?
Ему отдали пук из платков, какой-то одежонки.
– Тряпки? – поморщился полицай. – Зачем мне ваши тряпки?
– Ничего больше нет, – ответил тот же голос.
– Ладно, – смилостивился Григорий. – Давайте хоть это. С паршивой овцы шерсти клок.
Он сгрёб жалкую еврейскую одежонку и пошёл бандитствовать к соседнему дому.
Брат Ремы плакал половину ночи, вздрагивая и прижимаясь к матери. Никак не мог успокоиться. Так его напугал страшный человек с ружьём. Тяжело дышал старик Шендеров. От удара у него что-то оборвалось в груди, и он выдыхал с присвистом. Невестка рукавом вытирала пот со лба старика.
В середине августа 1941-го полицаи отобрали среди жителей гетто восемнадцать мужчин покрепче и приказали выкопать на северной стороне посёлка огромную яму. Евреи зароптали, в голос зарыдали женщины.
– Дурачьё! – сплюнул себе под ноги полицай Голуб. – Кому вы нужны? Видите, по полям техника сгоревшая стоит. Будет мешать работать на поле. Надо её убрать.
Евреи немного успокоились, принялись за работу. Вскоре яма была готова. Огромная, почти пятьдесят метров в длину, с земляными ступеньками, спускающимися на самое дно.
Утром 18 августа полицаи Гнот и Голуб ходили вдоль по Рабоче-крестьянской улице с криками:
– Жиды, эй, жиды! Все на выход с документами! Брать с собой документы! Всем собраться у базара! Выходите, выходите!
– Что-то не так, – прошептала Хася, прижимая с себе сына и дочь.
– Бежала бы ты, баба, – синюшными губами произнёс старик Шендеров. – Детей бы спасала.
– Куда бежать? – чуть не плача, спросила Хася. – Кругом они.
– Может, ещё обойдётся, – сказал кто-то. – Проверят документы и домой отпустят.
Голуб с Гнотом выгоняли людей из домов, пинали их, направляя толпу к базару. Вдоль всей улицы стояли другие полицаи и немцы. Неподалёку прохаживались офицеры, переводчик в гражданском пиджаке и бургомистр Зембина Давид Эгоф.
Евреев группами выводили на базарную площадь, ставили на колени. Полицаи шарили по карманам, отбирали документы. Старик Шендеров переступил порог дома и тут же упал, он задыхался, лицо у него совсем посинело.
– Поднимите эту падаль! – крикнул полицай. – Нечего тут валяться.
Кто-то из родственников подхватил старика, помог подняться.
– Пусть Бог примет мою душу, – прошептал Шендеров.
Его тоже заставили стать на колени. Но через минуту старик не выдержал и упал лицом вниз. Голуб подскочил к нему, ткнул винтовкой.
– Готов, – равнодушно заключил он. – Сам подох.
Немцы отобрали двадцать самых сильных мужчин.
– Идите, надо работать! – крикнул переводчик.
И группа потянулась к лесу, а точнее, к яме.
– Что там? Куда их? – завопили бабы.
– Стоять тихо! – рявкнул Гнот. – Сейчас прикладом получите! Стоять, я сказал!
Через несколько минут от леса донеслись выстрелы.
Толпа взревела, люди начали подниматься. Полицаи бросились вперёд, работая кулаками, ногами, прикладами.
– Сидеть! Сидеть!
Отбили ещё одну группу в пятнадцать человек. Отвели к лесу. Выстрелы! И ещё одну! Выстрелы!
Толпа быстро таяла. И вот уже поднимают Хасю с детьми. И ведут к лесу, к страшной яме, заваленной телами. Ставят на краю. Поднимаются винтовки.
Офицеры с переводчиком стоят в стороне, наблюдают. Один фотографирует.
За минуту до смерти, охваченная какой-то безумной надеждой, Хася толкнула дочь и сына к немцам.
– Скажи им, что вы не евреи! Скажи, что у тебя русский отец, значит, вы тоже русские!
– Мама!
– Иди, я сказала! Иди!
Не было времени даже попрощаться, даже обернуться на мать. Рема сжала покрепче ладошку брата и двинулась к переводчику, стоявшему чуть в стороне от немцев.
– Дяденька!
Переводчик с удивлением глянул на пару детей, возникшую у его ног.
– Дяденька, – чуть не шепотом сказала Рема. – Это ошибка. Мы не евреи. Мы русские.
Переводчик поморщился, но почему-то не стал прогонять настырную девочку. Стоявший рядом с ним немец спросил что-то у него. Тот ответил. Немец бросил короткую фразу.
– Кто может подтвердить твои слова, девочка?
Рема растерянно оглянулась. Сзади грохнули первые выстрелы. Закричали люди. Переводчик начал терять терпение.
– Ну? Кто может подтвердить?
Взгляд Ремы вдруг упал на Давида Эгофа, бургомистра. Совсем недавно этот человек был учителем. Он знал их семью, отца.
– Вот, господин Эгоф может подтвердить, – Рема указала рукой на бывшего учителя.
Переводчик подозвал Эгофа. Предатель чуть ли не рысцой подбежал, оскальзываясь на отвалах сырой земли.
– Да, господин переводчик?
– Эта девочка утверждает, что вы их знаете. Что их отец русский, а значит, они тоже русские. Это так?
Эгоф оторопел. За его спиной Гнот и Голуб добивали партию евреев. Тела падали в яму, глухо стукаясь о предшественников.
– Так что скажете?
Эгоф посмотрел на Рему. Девочка закусила губу и посмотрела на него в ответ. Только одно его слово сейчас решало жить им с братом или умереть.
– Эгоф, вы тратите наше время, – недовольно выпалил переводчик.
И бывший учитель кивнул.
– Да, это дети Асиновского. Мать у них еврейка, Хася Ходасевич, но отец и вправду русский.
Переводчик тут же сказал несколько фраз немцам. И один из них сделал движение кистью.
– Идите, – сказал переводчик брату и сестре. – Идите домой.
В этот момент у ямы грохнул очередной выстрел, и мать Ремы упала к другим жителям Зембинского гетто.
18 августа 1941 года, спустя всего месяц после образования, Зембинское гетто было уничтожено. Полицаи расстреляли более семисот (по другим данным 927) человек, в основном стариков, женщин и детей. К трём часам дня яма была заполнена и её начали засыпать.
Рему и её маленького брата спасло чудо. Только чудом можно назвать то, что предатель и палач Давид Эгоф подтвердил их происхождение.
Отец
Алексей Разин
(Борисов, ноябрь 1941 г.)
– Они должны нас выслушать, – горячился Алексей. – Это какая-то огромная ошибка. Мы же не в средневековье живём, середина двадцатого века на дворе.
Его приятели угрюмо молчали. Только старый меламед Лейб Чернин начал говорить о том, что всё совершается по воле Господа, что он не даст народу своему погибнуть, надо только молиться и верить. Но его слова словно падали в пустоту. Люди устали, они потеряли надежду.
– Не убьют же они нас, в конце концов! – в отчаянии закричал аптекарь Залманзон. – Мы же можем работать, приносить пользу. Тот же Хацкель, кажется, неплохо устроился. Управляет нами от имени немцев.
– Хацкель везде пролезет, – проворчал Алексей. – Мне кажется, если из ада полезут черти, он и с ними сможет договориться.
– Нас не нужно убивать, – вздохнул сапожник Янкель. – Мы сами скоро передохнем от голода. Я уже ноги еле таскаю. Дети постоянно плачут, просят есть. И мыло. Никогда не думал, что во сне мне как самое большое счастье будет сниться обычный кусок мыла.
Мужчины снова замолчали, соглашаясь с Янкелем. Каждый чувствовал, что силы заканчиваются. Саднит и чешется исхудавшее, немытое тело. Дети с каждым днём тают, как свечки. Жёны смотрят на своих мужчин с надеждой, верят в них, но надежда эта пустая.
– Вчера в город вернулся Эгоф, – поделился новостью Лейб Чернин. – Его назначили каким-то большим начальником по безопасности.
– Какая же скотина! – снова повысил голос Алексей. – И этакая тварь всё время ходила рядом с нами, учила детей.
– Тиши, тише, – замахал руками Лейб. – Услышит кто твои крики, донесёт немцам. Пропадём все.
– Эгоф – это плохо, – произнёс Янкель. – Люди говорят, что там, где Эгоф, будут расстрелы. Он был и в Зембине, и в Бегомле. Проклятый человек.
Янкель в сердцах хватил кулаком по колену.
– Да тише вы! – снова зашипел Лейб.
Он поднялся со своего места, подошёл к щелястой стене сарая, в котором они сидели, выглянул наружу.
– Кажется, никого. Раскричались тут! Господь всё видит, поможет нам.
– Мне иногда кажется, что Господь помогает не нам, а немцам, – огрызнулся Янкель. – Они и русских погнали, и Москву скоро возьмут. На каждом углу об этом кричат.
– Пока ещё не взяли.
– Вопрос времени. Через сколько дней они были в Минске? То-то и оно. Немцы – сила, мощь, железо. А мы – масло. Где это видно, чтоб масло победило железо?
– Идёт кто-то, – зашептал Лейб.
Мужчины замерли, стараясь не дышать. Тяжёлые шаги прогрохотали мимо сарая, скрипнул ремень винтовки. Полицай остановился совсем рядом, прислушиваясь. Евреи словно превратились в каменные статуи. Полицай оглушительно чихнул, высморкался себе под ноги и потопал дальше.
– Пора расходиться, – сказал Лейб. – Поймают – беда будет. Давайте послезавтра в то же время.
* * *
Через два дня Алексей пришёл в сарайчик как только стемнело. Внутри было пусто. Он немного подождал, но никто не появлялся. Холодный ноябрьский ветер задувал через щели. Алексей, одетый в худую, рваную одежду, начинал зябнуть. Наконец в конце улицы показалась тень.
– Кто здесь? – прошептала тень голосом Янкеля.
– Это я, Разин, – ответил Алексей. – Где все? Почему никто не идёт?
– Ты разве не слышал? – отозвался из темноты Янкель.
– Что случилось? – помертвел Разин.
– Абрам отправил в город жену, та влезла в аптеку, взяла каких-то порошков. И сам отравился, и всю семью отравил.
– Да как он мог? Детей?
– Именно, детей. В городе творится неладное. Эгоф собирает полицаев со всего района. Приехали какие-то из Плещениц, а ещё полно эсэсовцев, только не немцев, а прибалтов. Что-то будет, Лёша. Я уверен, мы – приговорены. Лейб собрал вокруг себя баб, они днём и ночью молятся. Но мне кажется, что молиться поздно. Господь уже закрыл на нас глаза.
– О чём ты говоришь, Янкель. Разве может Бог.
– Прощай, Лёша. Сегодня попробую перебраться в город, а там пойду в лес.
– Опомнись! Тебя убьют!
– Меня и так убьют. Нас всех скоро пустят в расход. Эгоф не зря целую армию собирает. Бежал бы и ты.
– Я не могу, – чуть не заплакал Алексей. – У меня дети маленькие. Куда им в ноябре в лес? Замёрзнут.
– Тогда прощай.
Янкель без дальнейших разговоров скрылся в темноте, а Разин поплёлся домой. До самого утра он просидел в углу, глядя на лица своих спящих детей, замечая, как они похудели, осунулись некогда круглые личики, как тени легли под глазами. Наутро Алексей решительно встал и направился к известному немногим выходу из гетто – расшатанной доске в заборе. Он шёл по улице в сторону комендатуры и имел такой уверенный, решительный вид, что даже встреченный полицай ничего ему не сказал.
Алексей остановился в десятке шагов от дверей комендатуры. «Попроситься внутрь? Но кто же его впустит. Он грязный еврей в рваной одежде. Немцы даже не станут с ним разговаривать. Надо подождать, когда-то они соберутся в комендатуре, и тогда он найдёт слова, упросит кого-нибудь из начальства пощадить хотя бы детей. Эгоф – палач, ему никого не жалко. Но комендант Шерер кажется интеллигентным человеком. Он должен понять, у него самого, наверное, есть дети».
Разин ждал. В комендатуру стягивались чиновники разных рангов. Торопились секретари, появился переводчик. Наконец у входа затормозила красивая чёрная машина, и на крыльцо вылез комендант Шерер. Алексей тут же кинулся к нему.
– Герр офицер! Герр офицер, выслушайте меня.
Немец с удивлением посмотрел на грязную фигуру, бросившуюся к нему.
– Герр офицер!
Удар приклада сбил Алексея с ног. В голове словно бомба взорвалась. Он упал на землю, но продолжал ползти в сторону коменданта, пытаясь говорить:
– Герр офицер, выслушайте! Герр офицер. Они же дети, они ни в чём не виноваты!
Ещё один удар пришёлся прямо в затылок, мысли Разина спутались, рот наполнился кровью. Он полз, видя перед собой только одну цель – высокие блестящие сапоги коменданта.
– Они совсем маленькие, Янке всего годик, он, когда спит, так смешно чмокает губами. Чистый ангел, герр офицер. Видели бы вы его. А Анечка, свет не видал такой красивой девочки. И умница. Из неё вырастет настоящее чудо.
Шерер с каменным лицом смотрел на человека, который полз к нему и лопотал что-то неразборчивое. Он не понимал, чего хочет этот мужчина. И ему, собственно, было всё равно. Судя по жёлтой звезде, нашитой на одежде – ещё один еврей из гетто. Пара-тройка дней – и их всех не станет. Не зря Эгоф второй день поит в казармах целую армию полицейских. У них уже есть приказ.
Полицай поднял винтовку, чтоб ударить ползущего ещё раз, но комендант внезапно поднял руку. Ему стало интересно – доползёт или нет.
Алексей дополз. Кончиками пальцев коснулся блестящего носка сапога.
– Герр офицер. Мои дети. Мои маленькие дети. Они ни в чём не виноваты.
Шерер кивнул, соглашаясь со своими мыслями, и подал знак охране.
Полицаи оторвали Разина от сапог немца, поволокли прочь от комендатуры. Поставили на колени у соседнего дома, дуло винтовки больно упёрлось в затылок. Последнее, что увидел Алексей, это как немец с брезгливой миной достаёт из кармана платочек и оттирает сапог от капель его крови.
Потом была тьма.
Кассир
Пётр Людвигович Ковалевский (Кавальский)
(Борисов, Беларусь)
Пётр Людвигович в последний раз провёл тряпочкой по носкам сапог, наводя на щеголеватую обувь особый глянец. Тряпочку аккуратно сложил, опустил в ящик, стоявший справа от двери. Щелкнул каблуками. Уж чему-чему, а ухаживать за сапогами он научился. Сколько лет отработал кассиром в сапожной артели. Кажется, насквозь пропитался запахами клея, гуталина, кожи.
Глянул на себя в захватанное пальцами зеркало, висящее на стене. А что, ещё вполне ничего. Не молод, конечно, виски совсем седые и картуз приходится надвигать поглубже, чтоб лысина не блестела под солнцем. Но человека ведь красит не возраст, не прожитые годы, а должность. Что-что, а уж должность у него отличная.
Ещё год назад думал, что всё, конец Петру Ковалевскому, всю жизнь просидит простым кассиром в сапожной артели, среди жидов и пьяниц. Каждый день до самой пенсии будет видеть эти рожи, выслушивать пошлые шуточки необразованного быдла. И благодарить судьбу за то, что ему ещё повезло. Его товарищи по прошлому были бы благодарны и этому. Многие из них закончили жизнь далеко на севере. А Ковалевский выкрутился, спасся, пересидел.
В царское время так всё хорошо начиналось. Петя Ковалевский служил жандармом, ходил по улицам в высоких сапогах с глянцем, в заметной издалека фуражке. Шашка на боку, огонь во взгляде. Государственный человек, представитель власти. Берегись ворьё и всякий нежелательный элемент. Пётр Людвигович за всем присмотрит, всё у него под контролем.
Отсюда и уважение от людей было. И шапку перед ним ломали, и подносили по праздникам. А Петру не сколько подношения те нужны были, сколько поклоны, страх в глазах горожан. Унижение, когда обращались к нему с просьбами.
– Уважь, Пётр Людвигович.
– Подсоби, Петр Людвигович.
– Поспособствуй, уж мы в долгу не останемся.
Ковалевский сдвигал косматые брови, грозил пальцем. Прикрывал, кого надо. А кого не надо – подносил на блюдечке начальству. Не стеснялся пускать в ход кулаки, выбивая признание. Получал и за это поощрение. Если случалось дело, то вперёд не лез. Гибнуть под пулями «товарищей» ему вовсе не хотелось. Однако шёл сразу во втором ряду. Чтоб видели его рвение те, кому надо. Они и видели. И снова поощряли. К пенсии, глядишь, и вышла бы ему хорошая должность с домиком на окраине. В общем, правильным жандармом был Ковалевский, ценили его и те, что выше, а те, что ниже, – боялись.
А потом война, революция, большевики краснопузые всё с ног на голову поставили. В начальстве нынче вчерашняя голытьба, а те, кому он прислуживал, от кого ждал покровительства, либо в расход пущены, либо бежали. А ему куда бежать? Капиталов больших не нажил. Чуть уцелел в этом сумасшедшем доме. Чудом спасся. Удалось пристроиться кассиром в сапожную артель. А там хоть и близко к деньгам, да ведь к чужим деньгам. И никакой власти. А по власти душа тоскует.
Когда в 1941-м пришли новые хозяева, Пётр Людвигович дома сидеть не стал. Тут же предложил свои услуги. А что, и опыт в нужной сфере имеется, и рука ещё крепкая, и город он хорошо знает. Где жиды проживают, где жёны-дети офицерья, где коммунисты отъявленные. Всё у него в памяти, всё ждало своего часа. За порядком в городе он уж присмотрит.
Немцы «специалиста» оценили. Назначили заместителем начальника городской полиции. А значит – снова сапоги с глянцем, спина выпрямилась, усы вверх. Не узнать бывшего кассира сапожной артели. Высоко взлетел. А то, что шашки на боку нет, так это ничего. Времена уже не те.
* * *
Пётр Людвигович вышел на крыльцо и сразу же заметил у калитки бывшего товарища по артели, бригадира Никиту Иосифовича. Потрепала жизнь старого сапожника. Отощал, одёжка поизносилась. На груди, на самом видном месте, – звезда жёлтая. Чтоб каждый встречный видел, кто перед ним. А ведь совсем недавно сидел гордый, помахивал своим молоточком над подошвами, шуточки поганые шутил. Пусть теперь пошутит.
Услышав стук двери, сапожник встрепенулся, бросился к кассиру.
– Пётр Людвигович, здравствуй.
– Ну? – недовольно поморщился Ковалевский.
– Как поживаешь?
– Некогда мне с тобой разговоры вести, – огрызнулся начальник полиции. – Говори, чего надо?
– Просьба у меня к тебе.
– От вас только и дождёшься, что просьбы.
Ковалевский шагнул в сторону, обходя бывшего коллегу стороной и двинулся вперёд по улице.
Никита Иосифович растерялся, но, спохватившись, засеменил рядом, затараторил быстрее:
– Погибаем, Пётр Людвигович. Детишки с голоду плачут. Запасы все подъели. Да и что там подъедать было, почти всё немцы забрали.
– Не забрали, а реквизировали для нужд великой Германии, – процедил сквозь зубы Ковалевский.
– Конечно, конечно, – торопливо согласился сапожник. – Нам не жалко, если для нужд. Мы же всё понимаем. Но самим-то есть нечего, Пётр Людвигович. В доме ни крошки.
– Так что ты от меня хочешь?
– Нам бы работу какую, – заместитель начальника полиции взял слишком быстрый темп, и голодный сапожник начал задыхаться и отставать. – Какую хочешь работу сделаем. И платить нам можно немного, лишь бы на хлеб хватало. У солдат сапоги чинить станем, хомуты всякие, сёдла. Мы же умеем, ты знаешь. А за нами не заржавеет, Пётр Людвигович. Мы уж отблагодарим.
Ковалевский остановился так резко, что зазевавшийся сапожник чуть не врезался ему в спину.
– Ты что, взятку мне предлагаешь?
Лицо Никиты Иосифовича исказилось в плаксивой гримасе.
– Дети от голода хнычут. Нам бы хоть как, хоть на хлеб.
– Нет у меня для вас работы! – ответил Ковалевский. – Будет на ваш счёт приказ – всё решим. А пока сидите и ждите.
– Досидим ли, Пётр Людвигович, – опустил голову сапожник.
– А чем недовольны?
– Помнишь Шимшу Альтшуля? Старик к нам ходил, всё байки рассказывал.
– Не помню я всех борисовских стариков. Делать мне больше нечего!
– Убили Шимшу Альтшуля. Походя убили, ни за что.
– Ни за что – не бывает. Значит, было за что. Вы и про Бому Каца ныли, что ни за что, а этот пьяница моего служащего кулаком ударил. Представителя законной власти, между прочим!
Никита Иосифович отвернулся.
– Помоги, Пётр Людвигович. Ты наша последняя надежда. Ты хоть свой, близкий. Сколько раз мы тебя выручали.
– Какой я вам свой? – разозлился Ковалевский. – Нечего меня в жидовскую кодлу записывать! И чем это вы мне помогали? Рубль до зарплаты ссужали, так я всегда вовремя отдавал.
За занавесками ближайшего дома мелькнула тень, и Ковалевский понял, что вся улица прильнула сейчас к окнам, слушает их разговор. И от осознания этого ещё больше разозлился.
– Чего ты за мной ходишь? Неужели не видишь, что другое время нынче! Это раньше я был Пётр Ковалевский, кассир сапожной артели. Мог ты ко мне запросто обратиться. А теперь кто? Кто, я спрашиваю?
Он шагнул к сапожнику, поднял над головой кулак, занося его для удара. И почувствовал, что возвращается всё. Словно молодеет он, становится выше ростом. И шашка невидимая хлопает по бедру. Как и не было проклятых двадцати четырёх лет унижения. Будто плохим, липким сном они промелькнули.
– Кто я? – рявкнул Ковалевский.
Никита Иосифович вжал голову в плечи, зажмурился.
– Ты заместитель начальника полиции, Пётр Людвигович.
– Вот и помни это, и своим скажи! – внезапно остыл Ковалевский.
Для острастки ткнул кулаком в лицо просителя, но уже не со злостью, а так, для порядка. И зашагал дальше. Сапожник остался с тоской поглядывая вслед бывшему сослуживцу.
* * *
Пока шёл к зданию полиции, все встречные кланялись ему, снимали шапки. Люди с жёлтыми звёздами на груди покорно переходили на другую сторону улицы. От этих поклонов, почтительных взглядов настроение у Ковалевского слегка поднялось. У входа он встретил бургомистра Станислава Станкевича, протянул ему руку.
– Здравствуй, Пётр Людвигович, – кивнул полицаю бургомистр. – Чего хмурый такой?
– А-а, – пожал плечами Ковалевский. – Жиды надоели. Шастают по всему городу, раздражают. Когда уже приказ будет?
– На конец августа обещают, – важно ответил бургомистр. – Как переселим их в гетто – мигом шастать перестанут. Оттуда только по пропускам выходить будут. В городе дышать станет легче.
– Скорей бы уже.
– Поедешь сегодня туда?
– Обязательно.
– Матовилов на месте?
– Пётр Денисович? Землемер? Где ж ему ещё быть. Без него всё дело встанет.
– Хорошо работает?
– Старается. Сразу видно учёного человека.
– Смотрите. А то скоро комиссия туда приедет от городской управы, Стругацкого Иосифа Антоновича знаешь?
– Знаю.
– Вот он и приедет. И ещё инженер один, Соловьёв фамилия. Проверять будут, чтоб к концу августа всё готово было. Может, нужно чего? Проволоки хватает?
– Было бы неплохо добавить.
– Так не стесняйся, проси. Для хорошего дела ничего не жалко. Ладно, побегу. Весь в хлопотах сегодня.
Станкевич сунул Ковалевскому свою вялую интеллигентскую руку и заторопился прочь.
Пётр Людвигович презрительно сплюнул ему вслед.
– Гимназист, учителишка. Всё на меня свалил. Не хочет сам ручки марать. Со старых времён привыкли всё чужими лапками.
Однако комиссия – это лишние хлопоты, перед ней надо показать работу. Ковалевский развернулся и двинулся в сторону Красноармейской и Слободки, где с 25 июля окружали забором из колючей проволоки несколько кварталов – будущее Борисовское гетто.
* * *
27 августа 1941 года приказ пришёл.
Ковалевский стоял немного позади шеренги полицаев и с ленцой поглядывал на угрюмую толпу, тянущуюся по улице в сторону Слободки. Евреям запретили брать с собой тёплую одежду, мебель, запасы. По одному чемодану да по узелку в руки.
– Им и этого будет много, – уверял «товарищей» Ковалевский. – Они же как тараканы. Выживут, ещё и плодиться начнут.
Над городом стоял крик, плач. Полицаи выгоняли семьи, попавшие в списки, из домов, щедро раздавали удары прикладами и сапогами, не стеснялись на глазах у хозяев засовывать в карманы приглянувшееся добро.
– Всё растащат, подлецы, – расстраивался Ковалевский.
Прямо чувствовал, как мимо его рук проходят драгоценности выгоняемых семей, оседая в карманах подчинённых. И ведь никто не поделится, не уважит начальника. Вор на воре.
– Стой здесь, – приказал Ковалевский своему помощнику, полицаю Михаилу Морозевичу. – Смотри, чтоб всюду порядок был. Я отлучусь ненадолго, пригляжу за процессом.
Морозевич равнодушно пожал плечами. С самого раннего утра он был сильно пьян и вряд ли понимал, что вокруг происходит. Сказали стоять, смотреть. Будем стоять.
Пётр Людвигович рысью направился к дому богатого аптекаря Залманзона. Не раз видел в ушах Залманзонихи золотые серёжки, а сам аптекарь щеголял с хорошими часами, давно приглянувшимися Ковалевскому. Им уже без надобности, а уж он-то пристроит, не даст добру пропасть.
Не успел пройти и двух сотен шагов, как под ноги ему выкатился серый кричащий ком.
– Пётр Людвигович, спасите!
Ковалевский шарахнулся в сторону. У ног его рыдала жена молодого сапожника Ёськи Лившица. Волосы растрёпаны, на щеке царапина, платье порвано. За женщиной следом выскочили два полицая, братья Иван и Николай Петровские, остановились, тяжело дыша и растерянно оглядываясь.
– Что тут у вас? – поморщился Ковалевский.
– Да вот, господин начальник, – пожал плечами один из полицаев. – Жидовка бежать пытается.
– Они, они… – запищала женщина.
Всё и так понятно. Баба смазливая, всё при ней, а парни молодые. Пока батька их Фёдор Григорьевич шарит по закромам, решили развлечься. Ковалевский взял рыдающую жену сапожника за шиворот, рывком поднял, толкнул в сторону Петровских.
– Уберите.
– Пётр Людвигович! – завопила дурная баба.
Снова вырвалась из рук полицаев, попыталась рухнуть начальнику в ноги. И тут зло взяло Ковалевского. Внезапно, как уже не раз бывало. Елозит руками своими жирными по его сапогам, пятна оставляет, чуть не целует глянцевые носки, сопли по ним размазывает. Противно и гадко.
Ковалевский поднял свой пудовый кулак и с размаху опустил на склонённый затылок. Женщина охнула, осела на мостовую. Этого Петру Людвиговичу почему-то показалось мало. Он выхватил из кармана пистолет, ударил женщину по голове раз, другой. Под рукоятью что-то хрустнуло, брызнуло в разные стороны. Лившиц распласталась по мостовой лицом вниз, пошло раскорячив ноги. Ковалевский оттолкнул её сапогом в сторону полицаев.
– Уберите, я сказал!
– Да что уж тут, – мрачно отозвался тот, что постарше, кажется, Иван. – Чего уж теперь с ней делать?
Пётр Людвигович рявкнул на него и заторопился прочь. Опоздал. Залманзонов уже выводили из дома. Впереди ковылял сам аптекарь Абрам, за ним жена с детьми тащили узелки. Аптекарь, дурак, прижимал к груди свою скрипку. Старший из полицаев, довольно придерживал плотно набитый карман, где явно лежали и часы аптекаря, и золотые серёжки его жены. Ковалевский сплюнул от досады, развернулся и пошёл обратно к Морозевичу.
Полицай с трудом сфокусировал на начальнике взгляд.
– Справился, Пётр Людвигович?
– Не твоего ума дело, – огрызнулся Ковалевский. – Всё тут в порядке?
– В наилучшем виде, – Морозевич достал из кармана бутылку, отхлебнул.
– Ты бы хоть на моих глазах не пил, – высказал ему Ковалевский.
– Я немножко. Только один глоточек, для ясности. Пётр Людвигович, ты испачкался немного, – полицай ткнул начальника пальцем в грудь. – Что это у тебя?
Ковалевский скосил глаза. На лацкане пиджака красовалось жирное пятно с остатками чего-то серого, напоминавшего свиные помои.



