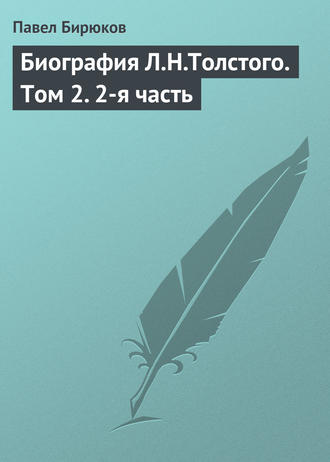
Павел Бирюков
Биография Л.Н.Толстого. Том 2. 2-я часть
В глубине души я продолжал чувствовать, что все это не то, что из этого ничего не выйдет, но статья была напечатана, и я взялся участвовать в переписи; я затеял дело, и дело само уж затянуло меня».
В своей книге, озаглавленной «Так что же нам делать?», Л. Н-ч с неподражаемой искренностью рассказывает свои неудачные опыты благотворительности.
Чтобы не приводить целиком всех этих глав, составляющих страницы из жизни самого Л. Н-ча, мы расскажем вкратце их содержание.
Ему был назначен по его просьбе участок Хамовнической части, у Смоленского рынка, по Проточному переулку, между береговым проездом и Никольским переулком. В этом участке находятся дома, называемые вообще Ржаное дом, или Ржановская крепость.
В первый раз Л. Н-ч пошел туда за несколько дней до переписи один, чтобы лучше ориентироваться потом. Он сразу окунулся во всю нужду, царствовавшую там, и тогда же ясно сознал, как трудно исполнимо задуманное им дело.
«Я, как ни странно сказать, – говорит Л. Н-ч, – в первый раз ясно понял, что дело, которое я затевал, не может состоять в том только, чтобы накормить и одеть тысячу людей, как бы можно было накормить и загнать под крышу 1000 баранов, а должно состоять в том, чтобы сделать доброе людям. И когда я понял, что каждый из этой тысячи людей такой же точно человек, с такими же страстями, соблазнами, заблуждениями, с такими же мыслями, такими же вопросами, такой же человек, как и я, то затеянное мною дело вдруг представилось мне так трудно, что я почувствовал свое бессилие. Но дело было начато, и я продолжал его».
Затем, в назначенные дни переписи, Л. Н-ч со студентами-счетчиками, назначенными в его распоряжение, внимательно и добросовестно обошел все грязные углы ужасной Ржановской крепости, и в то время, как счетчики делали свое дело, опрашивая и записывая нужные им статистические данные, Л. Н-ч старался расспросами со своей стороны разузнать степень и подробности нужды и делал заметки о возможной и предполагаемой помощи.
Собранный им таким образом материал дал возможность ему разделить всех нуждающихся на три разряда, именно:
Люди, потерявшие свое прежнее положение и ожидающие возвращения к нему (такие люди были и из низшего, и из высшего сословия), потом распутные женщины, которых очень много в этих домах, и третий отдел – дети. Больше всех он нашел и записал людей первого разряда. Пришлось бы перепечатывать здесь всю книгу, если бы желать рассказать все яркие картины, переданные в ней Л. Н-чем. Мы скажем только, что все его попытки помощи ни к чему не привели, лишь раскрыли перед ним во всем своем ужасе язвы нашего общественного строя.
Последний обход был ночью. Л. Н-ч так рассказывает о нем:
«Мы приехали в темный трактир, подняли половых и стали разбирать свои папки. Когда нам объявили, что народ узнал об обходе и уходит из квартир, мы попросили хозяина запереть ворота и сами ходили на двор уговаривать уходивших людей, уверяя их, что никто не спросит их билетов. Помню странное и тяжелое впечатление, произведенное на меня этими встревоженными ночлежниками: оборванные, полураздетые, они все мне казались высокими при свете фонаря в темноте двора; испуганные и страшные в своем испуге, они стояли кучкой около вонючего нужника, слушали наши уверения и не верили нам: очевидно, они готовы были на все, как травленый зверь, чтобы только спастись от нас. Господа в разных видах: и как полицейские, городские и деревенские, и как следователи, и как судьи, всю жизнь травят их и по городам, и по деревням, и по дорогам, и по улицам, и по трактирам, и по ночлежным домам, и теперь вдруг эти господа приехали и заперли ворота только затем, чтобы считать их; им этому так же трудно было поверить, как зайцам тому, что собаки пришли не ловить, а считать их. Но ворота были заперты, и встревоженные ночлежники вернулись, мы же, разделившись на группы, пошли. Впереди нас, во мраке, шел Ваня в пальто и белых штанах с фонарем, а за ним и мы. Шли мы в знакомые мне квартиры. Помещения были мне знакомы, некоторые люди тоже, но большинство людей было новое, и зрелище было новое и ужасное, еще ужаснее того, которое я видел у Ляпинского дома. Ужасно было зрелище по тесноте, в которой жался этот народ, и по смешению женщин с мужчинами. Все женщины, не мертвецки пьяные, спали с мужчинами. Многие женщины с детьми на узких койках спали с чужими мужчинами. Ужасно было зрелище по нищете, грязи, оборванности и испуганности этого народа. И, главное, ужасно по тому огромному количеству людей, которые были в этом положении. Одна квартира и потом другая такая же, и третья, и десятая, и двадцатая, и нет им конца. И везде тот же смрад, та же духота, теснота, то же смешение полов, те же пьяные до одурения мужчины и женщины, и тот же испуг, покорность и виновность на всех лицах, и мне стало опять совестно и больно, как в Ляпинском доме, и я понял, что то, что я затевал, было гадко, глупо и потому невозможно. И я уже никого не записывал и не спрашивал, зная, что из этого ничего не выйдет».
Приведем здесь еще один эпизод из переписи, по словам самого Л. Н-ча, имевший большое влияние на ход его мыслей и чувств.
В конце января в Москву приехал Василий Кириллович Сютаев и посетил Л. Н-ча. Об одном из посещений его так рассказывает графиня С. А. в письме к своей сестре от 30 января 1882 года:
«…Вчера был у нас чопорный вечер: была кн. Голицына и дочь ее с мужем, была Самарина с дочерью, Мансуров молодой, Хомякова, Свербеевы, и пр., и пр. Вечера подобные очень скучны, но помогло присутствие мужика-раскольника Сютаева, о котором вся Москва теперь говорит, и возят его повсюду, а он проповедует везде. О нем есть статья в «Русской мысли» Пругавина. Действительно, он замечательный старик. Вот он начал проповедовать в кабинете, все и переползли из гостиной туда, и вечер тем закончился.
…Какая бездна и какое разнообразие народа бывает у нас, – пишет Соф. Андр. в том же письме: – и литераторы, и живописцы» (Репин писал одновременно с Таней в кабинете портрет Сютаева), le grand monde, нигилисты и кого-кого еще я не видаю!»
А сам Л. Н-ч рассказывает об одном из свиданий с Сютаевым в Москве следующее:
«Это было в самый разгар моего самообольщения. Я сидел у моей сестры, и у нее же был Сютаев, и сестра расспрашивала меня про мое дело. Я рассказывал ей и, как это всегда бывает, когда не веришь в свое дело, я с большим увлечением, жаром и многословием рассказывал ей и то, что я делаю, и то, что может выйти из этого; я говорил все: как мы будем призревать сирот, старых, высылать из Москвы обедневших здесь деревенских, как будем облегчать путь исправления развратным, как, если только это дело пойдет, в Москве не будет человека, который бы не нашел помощи. Сестра сочувствовала мне, и мы говорили. Среди разговора я взглядывал на Сютаева. Зная его христианскую жизнь и значение, которое он придает милосердию, я ожидал от него сочувствия и говорил так, чтобы он понял: я говорил сестре, а обращал свою речь больше к нему. Он сидел неподвижно в своем черной дубки тулупчике, который он, как и все мужики, носил и на дворе, и в горнице, и как будто не слушал нас, а думал о своем. Маленькие глазки его не блестели, а как будто обращены были в себя. Наговорившись, я обратился к нему с вопросом, что он думает про это.
– Да все пустое дело, – сказал он.
– Отчего?
– Да вся ваша эта община пустая, и ничего из этого добра не выйдет, – с убеждением повторил он.
– Как не выйдет? Отчего же пустое дело, что мы поможем тысячам, хоть сотням несчастных? Разве дурно по-евангельски голого одеть, голодного накормить?
– Знаю, знаю, да не то вы делаете. Разве так помогать можно? Ты идешь, у тебя попросит человек 20 коп. Ты ему дашь. Разве это милостыня? Ты дай ему духовную милостыню, научи его. А это что же ты дал? Только, значит, отвяжись.
– Нет, да ведь мы не про то. Мы хотим узнать нужду и тогда помогать и деньгами, и делом. И работу найти.
– Да ничего этому народу так не сделаете.
– Так как же, им так и умирать с голода и холода?
– Зачем умирать? Да много ли их тут?
– Как много ли их? – сказал я, думая, что он так легко смотрит на это потому, что не знает, какое огромное количество этих людей.
– Да ты знаешь ли? – сказал я. – Их в Москве, этих голодных, холодных, я думаю, тысяч 20. А в Петербурге и по другим городам?
Он улыбнулся.
– Двадцать тысяч. А дворов у нас в России в одной сколько? Миллион будет?
– Ну, так что же?
– Что ж? – И глаза его заблестели, и он оживился. – Ну, разберем их по себе. Я не богат, а сейчас двоих возьму. Вон малого-то ты взял на кухню: я его звал к себе, он не пошел. Еще десять раз столько будь, всех по себе разберем. Ты возьмешь, да я возьму. Мы и работать пойдем вместе: он будет видеть, как я работаю, будет учиться, как жить, и за чашку вместе за одним столом сядем, и слово он от меня услышит и от тебя. Вот это милостыня, а то это ваша община совсем пустая.
Простое слово это поразило меня. Я не мог не сознавать его правоту, но мне казалось тогда, что, несмотря на справедливость этого, все-таки может быть полезным и то, что я начал. Но чем дальше я вел это дело и чем больше я сходился с бедными, тем чаще мне вспоминалось это слово и тем больше оно получало для меня значения».
Увидав всю несостоятельность своих благотворительных планов, Л. Н. решил прекратить эту деятельность.
Раздав оставшиеся у него на руках деньги, Л. Н-ч уехал в Ясную Поляну, «раздраженный на других, как это всегда бывает, за то, что я сам делал глупое и дурное дело, – говорит он в своей книге. – Благотворительность вся сошла на нет и совсем прекратилась, но ход мыслей и чувств, который она вызвала во мне, не только не прекратился, но внутренняя работа пошла с удвоенною силой».
В Ясной, в уединении, Л. Н-ч продолжал свою критическую работу.
Он пишет оттуда С. А-не:
«…Я думаю, что лучше, спокойнее мне никогда бы не могло быть. Ты вечно в доме и в заботах семьи не можешь чувствовать ту разницу, которая составляет для меня город и деревня.
Впрочем, нечего говорить и писать в письме; я об этом самом пишу теперь, и ты прочтешь яснее, если удастся написать. Главное зло города для меня и для всех людей мысли (о чем я не пишу) – это то, что беспрестанно приходится или спорить, опровергать ложные осуждения, или соглашаться с ними без спора, что еще хуже. А спорить и опровергать пустяки и ложь – самое праздное занятие и ему конца нет, потому что лжей может быть и есть бесчисленное количество. А занимаешься этим и начинаешь воображать, что это дело, а это самое большое безделье. Если же не спорить, то что-нибудь уяснишь себе, так что оно исключает возможность спора. А это делается только в тишине и уединении – я знаю, что нужно и общение с подобными себе очень нужно, и мои три месяца в Москве, с одной стороны, мне дали очень много, не говоря уже об Орлове, Николае Федоровиче, Сютаеве; ближе узнать людей, общество даже, которое холодно осуждал издалека, – мне дало очень много. И я разбираюсь со всем этим материалом. Перепись и Сютаев уяснили мне очень многое. Так не беспокойся обо мне. Случиться все может и везде, но я здесь в условиях самых хороших и безопасных».
Софья Андреевна в своем дневнике так говорит об этой поездке:
«28 февраля 1882 г…Мы в Москве… жизнь наша в Москве была бы очень хороша, если бы Левочка не был так несчастлив в Москве. Он слишком впечатлителен, чтобы вынести городскую жизнь, и, кроме того, его христианское настроение слишком не уживается с условиями роскоши, тунеядства, борьбы – городской жизни. Он уехал в Ясную вчера с Ильей (сыном) – заняться и отдохнуть».
Л. Н-ч вернулся в Москву, но ненадолго. В начале марта мы видим его опять в Ясной Поляне.
Настроение его в Москве, по-видимому, было тяжелое, и не было семейного согласия.
Мы думаем, что этот 1882 год был один из самых тяжелых для Л. Н. и его семьи. Слишком разные были их интересы, стремления их были противоположны.
Мы видим отражение этих отношений в их переписке.
Приехав в Ясную, Л. Н-ч, вероятно, выразил в письме к Софье Андреевне новое неодобрение ее городской жизни, так как она в ответ писала ему 3 марта:
«…Первое, самое унылое и грустное, когда я проснулась, было твое письмо. Все хуже и хуже. Я начинаю думать, что если счастливый человек вдруг увидел в жизни только все ужасное, а на хорошее закрыл глаза, то это от нездоровья. Тебе бы полечиться надо. Я говорю это без всякой задней мысли, мне кажется это ясно, мне тебя ужасно жаль, и если бы ты без досады обдумал и мои слова, и свое положение, ты, может быть, нашел бы исход.
Это тоскливое состояние уже было прежде давно: ты говоришь: «от безверья повеситься хотел»? А теперь? Ведь ты не без веры живешь, отчего же ты несчастлив? И разве ты прежде не знал, что есть голодные, больные, несчастные и злые люди? Посмотри получше: есть и веселые и здоровые, счастливые и добрые. Хоть бы бог тебе помог, а я что же могу сделать».
А Л. Н-ч между тем наслаждался деревенским уединением, живя в гармонии с природой.
Вот выписки из его двух писем:
«…Читал старые «Revues» – прекрасные статьи по религиозным вопросам – и много думал. Потом поехал верхом и еще больше думал…
…Здесь все ручьи налились, так что проехать трудно. Но нынче морозит и выдуло так, что я топлю другой раз. Нынче смотрю на дом К. и думаю: зачем он себя мучает, служит, где не хочет? И они все, и мы все взяли бы да жили все в Ясной и лето, и зиму, воспитывали бы детей. – Но знаю, что все безумное возможно, а разумное невозможно…
…Очень бы хотелось написать ту статью, которую я начал, но если бы и не написал в эту неделю, я бы не огорчился. Во всяком случае мне очень здорово отойти от этого задорного мира городского и уйти в себя, читать мысли других о религии, слушать болтовню Агафьи Михайловны и думать не о людях, а о боге…
…Чтение у меня превосходное. Я хочу собрать все статьи из «Revues», касающиеся философии и религии, и это будет удивительный сборник религиозного и философского движения за 20 лет. Когда устану от этого чтения, беру «Revue Etrangere» 1834 г. и там читаю повести, тоже очень интересно. Письма твоего в Туле вчера не получил, вероятно, не умели спросить. Но зато я получил твое на Козловке. И очень оно мне было радостно. Не тревожься обо мне и, главное, себя не вини. «Остави нам долги наши, якоже и мы». Как только других простил, то и сам прав. А ты по письму простила и ни на кого не сердишься. А я давно перестал тебя упрекать. Это было только вначале. Отчего я так опустился, я сам не знаю. Может быть, года, может быть, нездоровье… но жаловаться мне не на что. Московская жизнь мне очень мало дала, уяснила мне мою деятельность, если еще она предстоит мне, и сблизила нас с тобой больше, чем прежде… Я нынче думал о больших детях. Ведь они, верно, думают, что такие родители, как мы, это не совсем хорошо, а надо бы много получше, и что когда они будут большие, то будет много лучше. Так же, как им кажется, что блинчики с вареньем это уже самое скромное и не может быть хуже, а не знают, что блинчики с вареньем это все равно, что 200000 выиграть. И потому совершенно неверное рассуждение, что хорошей матери должны бы меньше грубить, чем дурной. Грубить – желание одинаково – хорошей и дурной; а хорошей грубить безопаснее, чем дурной, потому ей чаще и грубят.
…Боюсь я, как бы мы с тобой не переменились ролями: я приеду здоровый, оживленный, а ты будешь мрачна, опустишься. Ты говоришь: «я тебя люблю, а тебе этого теперь не надо». – Только этого и надо… И ничто так не может оживить меня, и письма твои оживили меня. Печень печенью, а душевная жизнь своим порядком. Мое уединение мне очень нужно было и освежило меня, и твоя любовь ко мне меня больше всего радует в жизни».
Возвращение Л. Н-ча в Москву на этот раз ознаменовалось радостным событием. Ко Л. Н-чу приехал художник-живописец Николай Николаевич Ге.
Про это событие своей жизни Ге рассказывает довольно подробно в своих «Записках». Он говорит:
«В 1882 году случайно попалось мне слово великого писателя Л. Н-ча Толстого «О переписи в Москве». Я прочел его в одной из газет. Я нашел тут дорогие для меня слова. Толстой, посещая подвалы и видя в них несчастных, пишет: «Наша нелюбовь к низшим – причина их плохого состояния…»
Как искра воспламеняет горючее, так это слово меня всего зажгло. Я понял, что я прав, что детский мир мой не поблекнул, что он хранил целую жизнь и что ему я обязан лучшим, что у меня в душе осталось свято и цело. Я еду в Москву обнять этого великого человека и работать ему.
Приехал, купил холст, краски – еду: не застал его дома. Хожу три часа по всем переулкам, чтобы встретить, – не встречаю. Слуга (слуги – всегдашние мои друзья), видя мое желание, говорит: «Приходите завтра в 11 часов, наверно он будет дома». Прихожу. Увидел, обнял, расцеловал. «Лев Николаевич, я приехал работать, что хотите. Вот дочь ваша, хотите, напишу портрет?» – «Нет, уж коли так, то напишете жену». – Написал. Но с этой минуты я все понял, я безгранично полюбил этого человека, он мне все открыл. Теперь я мог назвать то, что я любил целую жизнь, – он мне это назвал, а главное, он любил то же самое.
Месяц я видел его каждый день. Я видел множество лиц, к нему приходивших, и между ними одну, которая воскресила воочию то высокое, то дорогое, что вместе и самое высшее, самое лучшее в человеке.
Я сидел, обернувшись к окну, и слезы мешали мне слушать эту женщину. Она пришла в истинный восторг, узнав, что он так думает. Я стал его другом. Все стало мне ясно. Искусство потонуло в том, что выше его неизмеримо. Это была бесконечная радость, но тут же началось то, что всегда преследует уже не художника, а человека, и преследует до смерти».
Последствия этого знакомства были для Н. Н. Ге неисчислимы.
Подходя к этому факту жизни знаменитого художника, его биограф В. В. Стасов говорит:
«И вот немного спустя после катастрофы 1880 года его ожидало такое необыкновенное событие, какого он никогда и отгадать вперед не мог, но которое перестановило всю его жизнь на новый рельс и поставило перед ним колоссальный паровоз, уже увлекавший вперед, в могучем разбеге, десятки и сотни тысяч людей, а на этот раз увлекший и его.
В 1882 году Н. Н. Ге познакомился со Львом Николаевичем Толстым».
Графиня С. А. так пишет сестре своей об этом первом знакомстве:
«…Теперь знаменитый художник Ге («Тайная вечеря» на полу, говорили про него, что он нигилист) пишет мой портрет масляными красками, очень хорошо. Но какой он милый, наивный человек, прелесть! Ему 50 лет, он плешивый, ясные голубые глаза и добрый взгляд. Он приехал познакомиться с Левочкой: объяснялся ему в любви и хотел для него что-нибудь сделать. Взошла моя Таня, он говорит Левочке: «Позвольте мне написать вашу дочь». Левочка говорит: «Уж лучше жену». Вот я сижу уже неделю, и меня изображают с открытым ртом, в черном бархатном лифе, на лифе кружева мои d'Alencon, просто, в волосах, очень строгий и красивый стиль портрета».
Интересные сведения об этом знакомстве сообщает Т. Л. Сухотина, урожденная Толстая, старшая дочь Л. Н-ча, в своих воспоминаниях о Н. Н. Ге:
«Во время сеансов Ге много разговаривал со всеми нами. Он рассказывал, между прочим, о том впечатлении, какое произвела на него статья моего отца «О переписи в Москве», и о том, как она совершенно перевернула все его миросозерцание и из язычника сделала его христианином.
Он до конца жизни поминал это и сохранил к отцу самую нежную благодарность, которую он часто высказывал ему и еще чаще нам, его детям и моей матери, боясь быть неприятным отцу слишком частым повторением своих чувств.
Трудно сказать, насколько мой отец был причиной того нравственного переворота, который произошел в душе Ге. Я была слишком молода во время их первого знакомства, чтобы тогда быть в состоянии составить себе об этом ясное представление. Но теперь мне кажется, что пути, по которым шла душевная работа Ге и моего отца, вначале шли независимо друг от друга, но в одинаковом направлении. Оба они были художники, за обоими были в прошлом крупные художественные произведения, сделавшие их славу как художников, и оба они, пресытившись славой, увидали, что она не может дать смысла жизни и счастья. Мой отец провел несколько лет в мучительных исканиях и сомнениях. Насколько я знаю, то же было и с Ге. Несколько лет его жизни прошло, в которые он не написал ни одной картины. Он жил у себя в Малороссии и тосковал без дела и без цели в жизни.
Он был на перепутье, и как только он увидал по статьям отца, что отец переживает ту же душевную работу, которая и в нем происходила, он узнал себя и с радостью и восторгом бросился к отцу, в надежде, что он поможет ему выбраться из той темноты, в которой он пребывал в победнее время. Это так и случилось. И хотя изредка нападало на него чувство раздражения и одиночества среди людей, не разделяющих его взглядов, он тем не менее всегда умел себя побороть и стал опять спокойным и радостным».
В том же 1882 году Л. Н-ча посетил Николай Константинович Михайловский, который так рассказывает сам в своих воспоминаниях о знакомстве со Л. Н-чем.
«В 1881 г. гр. Толстой сделал новую честь «Отечественным запискам», еще раз предложив свое сотрудничество. У меня нет письма графа, в котором он делал нам это лестное предложение; но вот что в своем обыкновенном, шутливо-ворчливом тоне писал по этому поводу Салтыков Елисееву, бывшему тогда за границей:
«Я получил от Льва Толстого диковинное письмо. Пишет, что он до сих пор пренебрегал чтением русской литературы и вдруг, дескать, открыл целую новую литературу, превосходную и искреннюю, в «Отечественных записках». И это так его поразило, что он отныне намерен писать и печатать в «Отечественных записках». Я, разумеется, ответил, что очень счастлив, и журнал счастлив, и сотрудники счастливы, что будем ждать с нетерпением, а условия предоставляем определить ему самому. Но покуда еще ответа от него нет».
Сколько я помню, ответа так и не последовало. В 1882 г. мне нужно было быть в Москве, и Салтыков просил меня заехать к гр. Толстому и напомнить ему его собственное предложение. Тогда в петербургских литературных кружках ходили слухи о какой-то повести, которую гр. Толстой уже написал или пишет. Это была, вероятно, «Холстомер», а может быть «Смерть Ивана Ильича»; я был очень рад случаю явиться к гр. Толстому с делом, а не просто с желанием познакомиться.
Граф жил тогда еще не в собственном доме в Хамовниках, а где-то на Арбате, равным образом и сапог еще не шил, и «Исповеди» не писал. Это не мешало ему производить впечатление простого, искреннего человека, несмотря на светский лоск. Как ни странным может показаться это последнее выражение по отношению к гр. Толстому, но оно вполне уместно. Настоящая светскость состоит ведь не в перчатках и не во французском языке. Светский человек сказался прежде всего в том непринужденном и уверенном спокойствии, с которым граф отклонил деловую часть нашего разговора. Когда я сказал ему, что так, мол, и так, слышали мы, что вы повесть написали или пишете, так не дадите ли ее нам, он ответил: «О нет, у меня ничего нет, это просто Н. Н. Страхов нашел в моих старых бумагах рассказ и заставил его отделать и кончить, ему уже дано назначение». И затем граф легко и свободно перешел к разговору об «Отечественных записках», сказал много приятных для нас вещей, ни одним словом, однако, не упоминая о своем предложении и тем как бы приглашая и меня не говорить о нем. Я, разумеется, последовал этому невыраженному приглашению. Так для меня и до сих пор остаются невыясненными как мотивы вышеупомянутого письма гр. Толстого к Салтыкову, так и мотивы его уклонения от исполнения собственного обещания или предложения. По-видимому, и то и другое сделалось просто вдруг, как многое у гр. Толстого. В этот раз мы беседовали с графом о литературе и о кое-каких житейских делах, между прочим, об одном приватном, но имевшем общественное значение, в высокой степени симпатичном поступке графа в тот страшный 1881 г. Я рад был выслушать рассказ об этом деле от самого графа и еще более рад был тому, что рассказ этот своею простотою и задушевностью вполне соответствовал тому представлению о гр. Толстом, которое я себе заочно составил.
Тогда мне довольно часто случалось бывать в Москве, и я всякий раз доставлял себе удовольствие заезжать к гр. Толстому. Это был один из приятнейших собеседников, каких я когда-либо встречал. Нам случалось много и горячо спорить, и как теперь слышу голос графа: «Ну, мы начинаем горячиться, это нехорошо, давайте выкурим по папироске, отдохнем». Мы закуриваем папиросы, и это, конечно, не прекращало спора, но, действительно, самим фактом приостановки на несколько секунд придавало ему спокойный характер».
Верный друг и ценитель Л. Н-ча Н. Н. Страхов продолжал писать Л. Н-чу, и по нижеприводимому письму мы ясно видим, в чем было сходство и в чем различие этих двух друзей. Они сходились на отрицании. Но отрицание Л. Н-ча было гораздо шире, а Страхова уже. И Л. Н-ч при своем широком отрицании давал огромный положительный идеал и требовал того же от Страхова, а тот при своем узком отрицании, по своему собственному сознанию, не мог дать ничего положительного. Это чистосердечное признание значительно искупает недочеты в проповеди Страхова, и, вероятно, эта искренность и была тою нитью, которая привязывала его ко Л. Н-чу, не терпевшему никогда никакой фальши. Вот это интересное письмо:
«1882 г. 31 марта. Как я обрадовался вашему письму, бесценный Лев Николаевич! Как горячо захотелось мне отвечать вам, спорить против вашего упрека, но я вдруг заболел и с неделю был ни к чему не способен. Теперь поправляюсь и все же прошу извинить мое писание. Ваше возражение мне давно и не раз приходило в голову (есть даже у меня статья на эту тему). Все это движение, которое наполняет собою последний период истории, – либеральное, революционное, социалистическое, нигилистическое, – всегда имело в моих глазах только отрицательный характер; отрицая его, я отрицал отрицание. Часто я задумывался над этим и был изумляем, видя, что свобода, равенство, эти идеалы для многих, эти знамена битв и революций, в сущности, не содержат в себе ни малейшей привлекательности, никакого положительного содержания, которое могло бы дать им настоящую цену, сделаться положительными целями. Начиная с реформации и раньше и до последнего времени, все, что люди делают (как вы говорите), – не вздор, а постепенное разрушение некоторых форм, сложившихся в средние века. Четыре столетия идет это расшатывание и должно кончиться полным падением. В эти четыре века положительного ничего не явилось, да и теперь нет нигде в целой Европе. Самое новое в Америке и состоит в том, что голоса продаются, места покупаются и т. д. Общество держится старыми элементами, остатками веры, патриотизма, нравственности, мало-помалу теряющими свои основания. Но так как эти начала были воспитаны христианством до неслыханной силы, то человечество неизгладимо носит их в себе, и их еще долго хватит для его поддержания. Но живет оно не ими, а против их или помимо их. Все новые принципы – прямое признание мирской, земной жизни, и вот отчего так пышно нынче развилась жизнь. Есть простор для всего, для всякого рода деятельности, и для науки и искусства, и для служения Марсу, Венере и Меркурию.
В таком странном положении живут люди. Нынешняя жизнь носит противоречие внутри себя. Она возможна только потому, что человек вообще может жить, не имея внутреннего согласия и останавливаясь на какой-нибудь одной мысли, напр., свободы, национальности, обязательного обучения и т. п.
И вот я отрицаю самые крайние из отрицаний и говорю, что если люди в них живут и действуют, то только в силу каких-нибудь положительных начал, обманывая сами себя, принимая призраки за действительность, любя и злобствуя, но без настоящего предмета для любви и злобы.
Я давно смотрю и вглядываюсь, но не вижу ясного идеала.
И вам ли меня упрекать? Не вы ли видите одно лишь безобразие и обман в самых огромных сферах и в самых распространенных формах человеческой жизни? Если у вас одно отрицаемое, а у меня другое, то ваше шире по объему и труднее для объяснения, чем мое. Всемирная история есть повесть безумия и в том и другом случае, но по-вашему безумия более повального и жестокого, чем по-моему. И разве в «Коммуне» и в «Ренане» я уж нисколько не объясняю, почему люди это делают?
В сущности, ваша правда (только не ловите меня на слове), такие критические очерки, как мои, непременно требуют положительного изложения начал и без этого изложения легко могут быть употреблены на подпору самых дурных начал. Но, боже мой, это свое фальшивое положение я чувствую с тех пор, как пишу: я им мучусь, я знаю, что лучше бы прямо проповедовать цельную систему, ясную мысль. Но я делаю, что могу, и много, много молчу, и говорю осторожно и ясно, не пошлет ли бог других, которые скажут лучше и полнее?»
В начале апреля Л. Н-ч снова отправился в Ясную Поляну, откуда вскоре писал С. А.:
«Нынче утром вышел в одиннадцать часов и опьянел от прекрасного утра. Тепло, сухо, кое-где с глянцем тропинки, трава везде то шпильками, то лопушками лезет из-под листа и соломы, почки на сирени, птицы поют уж не бестолково, а уже что-то разговаривают, и в затишье на углах домов везде и у навоза жужжат пчелы. Я оседлал лошадь и поехал.
…Читал днем, потом обошел через пчельник и купальню. Везде трава, птицы, медунчики, нет ни городовых, ни постовых, ни извозчиков, ни вони, и очень хорошо. Так хорошо, что мне очень жалко вас стало, и думаю, что тебе непременно надо с детьми уезжать раньше, а я останусь с мальчиками. Мне с моими мыслями везде одинаково хорошо или дурно, а для моего здоровья влияния город иметь не может, а для твоего и детского большое. Обедал, доедал те роскоши, которые ты тогда прислала и Марья Афанасьевна сохранила. И потом только посидел с книгой, уже солнце за Заказ стало красное заходить. Я скорее делать заряды, седлать лошадь и поехал за Митрофанову избу. Летали вальдшнепы, далеко от меня и мало, ни разу не выстрелил, но много, как всегда, религиозно думал и слушал дроздов, тетеревов, мышей по сухим листьям, собачий лай за Засекой, выстрелы ближние и дальние, филина даже, Булька на него лаяла, песни на Грумонте. Месяц взошел с правой стороны из-за туч, дождался, пока звезды видны, и поехал домой».







