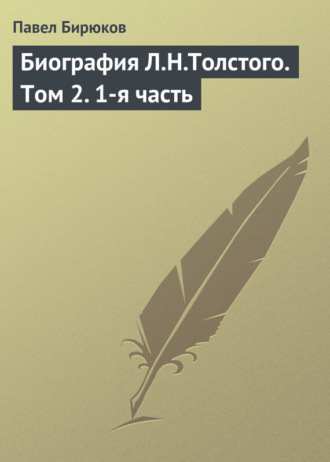
Павел Бирюков
Биография Л.Н.Толстого. Том 2. 1-я часть
Видеть то, что таится в душе человека под игрою страстей, под всеми формами себялюбия, своекорыстия, животных влечений, – вот на что великий мастер гр. Л. Н. Толстой».
От этой частной психологии критик переходит к психологии рациональной. Опираясь на мысль, высказанную современным критиком Аполлоном Григорьевым о преобладании в нарождающейся русской литературе особого национального типа – смирного, простого, берущего верх над типом блестящим и хищным, мысль, высказанную А. Григорьевым до появления «Войны и мира», Н. Н. Страхов усматривает в «Войне и мире» именно это торжество национального типа и подтверждает это следующими указаниями:
«Война и мир» – эта огромная и пестрая эпопея – что она такое, как не апофеоз смирного русского типа? Не тут ли рассказано, как, наоборот, хищный тип спасовал перед смирным, как на Бородинском поле простые русские люди победили все, что только можно представить себе самого героического, самого блестящего, страстного, сильного, хищного, т. е. Наполеона I и его армию?
Все фальшивое, блестящее только по внешности, – беспощадно разоблачается художником. Под искусственными, наружно изящными отношениями высшего общества он открывает нам целую бездну пустоты, низких страстей и чисто животных влечений. Напротив, все простое и истинное, в каких бы низменных и грубых формах оно ни проявлялось, находит в художнике глубокое сочувствие. Как ничтожны и пошлы салоны Анны Павловны Шерер и Элен Безуховой, и какой поэзией облечен смиренный быт дядюшки!
Художник изобразил со всей ясностью, в чем русские люди полагают человеческое достоинство, в чем тот идеал величия, который присутствует даже в слабых душах и не оставляет сильных даже в минуты их заблуждений и всяких нравственных падений. Идеал этот состоит, по формуле, данной самим автором: в простоте, добре и правде. Простота, добро и правда победили в 1812 году силу, не соблюдавшую простоты, исполненную зла и фальши. Вот смысл «Войны и мира».
Наконец, критик такими словами заключает свою оценку «Воины и мира»:
«Кто умеет ценить высокие и строгие радости духа, кто благоговеет перед гениальностью и любит освежать и укреплять свою душу созерцанием ее произведений, тот пусть порадуется, что живет в настоящее время».
В середине между этими двумя крайними критиками можно поставить Скабичевского, который в своих критических очерках дает основательное и добросовестное обозрение художественной части «Войны и мира». При этом впадает в ту ошибку, что преждевременно уподобляет Л. Н-ча Гоголю, «свихнувшемуся» на 2-й части «Мертвых душ». Скабичевскому кажется, что 2-я часть «Войны и мира» напоминает своим уклонением от философии печальный конец Гоголя. Если в последовавшем за большими романами религиозном кризисе Толстого и можно найти некоторую аналогию с кризисом Гоголя, то уподобление Толстого Гоголю со стороны художественного творчества уже не выдерживает ни малейшей критики. Все мы, пережившие период кризиса Толстого, можем засвидетельствовать то, что творчество Толстого не ослабло ни в количественном, ни в качественном отношении, оно приобрело лишь новую непоколебимую силу, ясность и твердость убеждения.
Историческая критика распадается на два отдела, соответственно содержанию романа, дающего эпизоды общеисторические и собственно события, касающиеся военной истории. «Война и мир» с исторической точки зрения вызвала также весьма разноречивые толки. Начиная с Тургенева, видевшего в исторической части «Войны и лира» лишь «фокус и больше ничего» и до Пятковского, употребляющего в своей статье «Историческая эпоха в романе Л. Н. Толстого» такие выражения: «Чтобы выдержать свою теорию исторического бессмыслия и применить ее к целому ряду фактов, гр. Толстой нарочно старается напутать и нагородить как можно больше в своем романе». Мы можем найти целый ряд критических статей того времени, не видящих никакого исторического значения за романом «Война и мир».
Но рядом с этим мы видим другой ряд критиков, во главе с Овсянико-Куликовским, который в одной из своих позднейших статей возвеличивает историческое значение «Войны и мира» до степени народного эпоса, называет «Войну и мир» русскими Илиадой и Одиссеей.
Хотя «история» затронута в романе во всей ее широте, но, собственно, «исторической» критики было мало. Так как наиболее яркие картины надо отнести к «военной истории» или, по крайней мере, к той части истории, в которой фигурируют военные события и военные люди, то и наиболее интересные критики можно найти в военной среде.
Из них мы опять приведем как наиболее яркие отрицательные отзывы, так и наиболее серьезные из положительных оценок.
А. Н. Попов, автор замечательной, но, к сожалению, до сих пор еще не появившейся в печати «Истории Отечественной войны 1812 года», сказал однажды в разговоре с В. Скабичевским:
«В числе очень важных исторических материалов, найденных мною, заключается и «Война и мир» Толстого. Конечно, я не пишу историю по роману, но очень часто, при освещении известного события, советуюсь с «Войной и миром». В моих руках много совершенно никому не известных, новых документов, о которых, очевидно, не имел понятия и Толстой. Документы эти проливают новый свет на очень важные минуты, на основании их я объясняю события совершенно иначе, чем объясняли их мои предшественники, военные историки. И в «Войне и мире» нахожу описание этого события и объяснения его совершенно тождественными с моими описаниями и объяснениями. Очень часто я рассказываю на основании непреложных исторических данных; гр. Толстой, не знакомый с этими данными, рассказывал на основании своего творческого прозрения, а выводы наши выходят одни и те же – так как же мне не советоваться с «Войной и миром»?
Но далеко не все военные были довольны тем, как Л. Н. Толстой изобразил войну 1805–1812 года.
Были такие критики «Войны и мира», которые считали себя лично оскорбленными тем правдивым тоном, которым написаны Л. Н-чем картины военных событий. Таковы были старые генералы, участники и очевидцы событий. Так, А. С. Норов написал большую критическую статью в этом оскорбленном тоне и поместил ее в «Военном сборнике» под заглавием «Война и мир» с исторической точки зрения и по воспоминаниям современников».
Одним из серьезных военных критиков Толстого является генерал Драгомиров, написавший ряд очерков под названием: «Война и мир» с военной точки зрения». Общий характер критики Драгомирова выясняется из первых слов его очерка:
«Роман Толстого интересен для военного в двояком смысле: по описанию военных и войскового быта и по стремлению сделать некоторые выводы относительно теории военного дела. Первые, т. е. сцены, неподражаемые и, по нашему крайнему убеждению, могут составить одно из самых полезнейших прибавлений к любому курсу теории военного искусства, вторые, т. е. выводы, не выдерживают самой снисходительной критики по своей односторонности, хотя они интересны как переходная ступень в развитии воззрении автора на военное дело».
Мы не считаем возможным следовать за автором в его восхищениях от описаний военного быта, так как считаем, что чувства эти общи всем читателям «Войны и мира», за самыми малыми исключениями. Не считаем себя также компетентными становиться судьей между критиком и автором для определения, кто из них прав во взглядах на «военную науку». Мы можем только сказать, что возражения Драгомирова грешат тем, что они разбирают военные взгляды Л. Н-ча как таковые, без их соотношения к основным взглядам автора и к основной идее всего произведения, откуда «военные взгляды» являются неизбежным последствием. Большинство военных критиков сходятся на том убеждении, что из художественных очерков Л. Н. Толстого военные историки могут многому научиться.
Философская, идейная часть «Войны и мира» встретила мало сочувствия в публике, еще меньше понимания.
Даже Н. Н. Страхов, больше комментировавший, чем критиковавший «Войну и мир», и тот, отнесясь сочувственно к выраженным в романе идеям, говорит, что было бы лучше, если бы философия истории была выделена в отдельный трактат, отчего выиграла бы ясность выраженных мыслей.
Только один проф. Овсянико-Куликовский в своих недавних очерках признал единство всех элементов (художественного, исторического и философского) «Войны и мира», их взаимно дополняющее значение и с этой точки зрения написал прекрасный анализ национальных и великосветских типов «Войны и мира».
Проф. Кареев в своей публичной лекции в 80-х годах сделал большую ошибку при разборе философии истории в «Воине и мире», выделив этот элемент и подвергнув его критике независимо от связи его со всем произведением. Результат его исследования, конечно, получился отрицательный; отдавая дань художественному реализму автора, он упрекает его в социальном индифферентизме.
То отношение автора к известным общественным явлениям, которое Кареев окрестил именем «социального индифферентизма», есть одно из проявлений тех общих идей, которые проходят через весь роман, отражаются в каждом событии, и упрекать автора за это, не подвергнув критике основные его положения, все равно, что упрекать строителя, зачем он сделал на здании квадратную крышу, не сказав, почему не следовало закладывать квадратного фундамента.
Да послужат все эти взаимно уничтожающиеся в своих противоречиях критические курьезы поучением последующим авторам и да предохранят они их от слишком большой чувствительности к этим нападкам и похвалам.
Сам Л. Н-ч не читал критики на свои произведения. Только немногие отзывы его личных друзей, как мы видели, интересовали его. К числу этих друзей можно отнести и Страхова, хотя Л. Н-ч познакомился с ним уже гораздо позже окончания «Войны и мира» и, стало быть, после его критических статей. Из личных сношений со Страховым Л. Н-ч мог знать его отношение к своему произведению и выражал это отношение так:
«Н. Н. Страхов поставил «Войну и мир» на высоту, на которой она и удержалась».
Некоторые иностранные критики касаются идейной стороны «Войны и мира», но критики эти большею частью стали появляться лишь в 80-х годах, когда за границей уже были распространены «Исповедь», «В чем моя вера?» и др. религиозно-философские произведения Л. Н. Толстого, и потому иностранные критики редко касаются отдельных произведений Л. Н. Толстого, а говорят о его общих идеях, смешивая различные стадии его мировоззрения. Принимая во внимание скудность этой идейной критики, мы с помощью всего имеющегося у нас материала постараемся в кратких словах выяснить идейное значение «Войны и мира» с интересующей нас биографической точки зрения. Другими словами, мы постараемся вкратце описать тот момент идейной жизни Л. Н-ча, который соответствует времени написания «Войны и мира», и посмотрим, как выразилось его тогдашнее мировоззрение в созданных им типах, в описанных им событиях и в изложенных им идеях.
Кипящая страстями бурная природа Л. Н-ча редко когда находила покой. А между тем творческая работа возможна была только при некотором успокоении. И вот мы можем заметить эти периоды покоя по проявлявшейся силе творчества. После бурного периода яснополянской жизни в конце 40-х годов Л. Н-ч едет на Кавказ с братом, и его захватывают впечатления от чудной новой кавказской природы, дикой кавказской военной жизни. Большая часть душевных сил фиксируется, таким образом утоляется ненасытная жажда впечатлений и наступает период успокоения и творчества, появляются «Детство», «Отрочество», «Юность», кавказские, севастопольские рассказы. Но вот обстоятельства меняются, меняются люди, и снова бушуют страсти и не находят себе удовлетворения, и в творчестве наступает затишье.
Петербургская литературная жизнь, хозяйство, заграничные поездки – все это развлекает, но не успокаивает его. Но вот он возвращается из второго путешествия и отдается педагогической деятельности. Снова фиксируется большая часть его душевных сил, и педагогическое творчество выливается из него обильным потоком. Он создает целую систему, дает массу образцов, пишет ряд статей, издает журнал.
Конечно, душевная жизнь его шла более сложным, глубоким путем, трудно изобразимым. Мы набрасываем только схему ее.
Страдая от мучивших его страстей, он еще более страдает от мучивших его сомнений. Одним из сильных душевных свойств его был неумолимый анализ всех окружавших его явлений. И этот самый анализ, сжигавший душу его, вызывал неутомимую жажду синтеза, общего вывода, смысла жизни, который дал бы ему равновесие душевных сил. И он не мог найти его.
Припомним его отчаянные слова в «Исповеди», относящиеся к началу 60-х годов:
«В продолжение года я занимался посредничеством, школами и журналами и так измучился, от того особенно, что запутался… что заболел более духовно, чем физически, – бросил все и поехал в степь к башкирам – дышать воздухом, пить кумыс и жить животною жизнью. Вернувшись оттуда, я женился».
Потребность женитьбы, семейной жизни давно беспокоила Л. Н-ча, и, наконец, он у тихой пристани. Семейная жизнь захватывает его с необычайною силою, снова фиксирует его страсти и освобождает его творческие силы. И в течение первых пяти лет он создает небывалое по силе и могуществу произведение – «Войну и мир».
Какому же моменту его душевного развития соответствовало это произведение?
Посредничество, педагогические занятия, хозяйство – все это с той или другой стороны сближало Л. Н-ча с народом. Он приходил с ним в самые разнообразные столкновения, изучал его внешний быт и с особым увлечением и умилением проникал в народную душу; нет и не было и не скоро будет еще человека, который бы с такой силой художественного анализа и синтеза, т. е. творчества, воссоздал тип русской народной души во всем разнообразии и во всем его величественном единстве.
Вот это созерцание души народа и неудержимое стремление изобразить ее было, по нашему мнению, одною из сил, создавших «Воину и мир». Но над этим народом, к которому всегда тянулась душа Л. Н-ча, стоял другой класс, так называемый высший, правящий, привилегированный, к которому принадлежал сам Л. Н-ч, носивший в себе наследие многих поколений. Он знал и любил его, как свою родную стихию, как любят семью, дом, родной угол, И к изображению этой части русских людей также влекла душа его. Он искал такое явление русской жизни, в котором бы проявились наиболее ярко характерные черты того и другого класса. Он нашел это явление в наполеоновских войнах начала прошлого столетия.
К интересу характерных положений русского народа и русского высшего общества присоединился еще интерес исторический, и работа эта увлекла все его творческие силы.
Жизнь народа изображена им как могучая стихия, как океан, то отражающий небо, то с всесокрушающей силой смывающий все на своем пути.
Она выразилась и в массовых народных движениях и трогательных отдельных типах, из которых один Платон Каратаев уже составляет эпоху в понимании и изображении русского народа, и в удивительном типе Кутузова, каким-то особенным инстинктом чуявшим направление этой стихийности и умевшим отдавать свои силы не на помеху, а во благо ей.
Жизнь высшего общества изображена им с необычайной психологической глубиной, так сказать, с анатомическим или химическим анализом его элементов. Беспощадно обличая пустоту, тщеславие, всякого рода преступность этого класса, он в то же время дает типы с проявлением высшего морального сознания, до которого только мог он сам подняться в лучшие сильнейшие минуты своей духовной жизни.
Князь Андрей и Пьер Безухов, эти психологические антитезы холодного скептика и наивного мечтателя, с двух противоположных сторон приходят, или, вернее, приводятся жизнью к богу. С необычайной правдивостью и искренностью изображает в них автор разные стороны, разные моменты своей души. Всегда стремившийся к самой высокой религиозной правде, Л. Н-ч в то время еще не сознавал ее ясно, не сознают ее и его герои. Один страданием, смертью, другой прикосновением к всегда правдивой и потому божественной стихийной народной жизни – приводятся к радостному ощущению, к близости божества, но оно остается для них все же подернутым какою-то неразгаданною тайной.
К этим внутренним идеям, выраженным в «Войне и мире», надо присоединить еще идеи более внешнего, объективного, исторического характера.
В своей статье «Несколько слов по поводу книги «Война и мир» он говорит, между прочим, перечисляя различные пункты, по которым он дает объяснение:
«Наконец, шестое и важнейшее для меня соображение касается того малого значения, которое, по моим понятиям, имеют так называемые великие люди в исторических событиях. Изучая эпоху столь трагическую, столь богатую громадностью событий и столь близкую к нам, о которой живо столько разнороднейших преданий, я пришел к очевидности того, что нашему уму недоступны причины совершающихся исторических событий.
Такое событие, где миллионы людей убивали друг друга и убили половину миллиона, не может иметь причиной волю одного человека: как один человек не может подкопать гору, так не может один человек заставить умирать 500 тысяч».
Развивая такие мысли более подробно в особых и философских главах, Л. Н-ч подвергает критике прежние и новые исторические методы, от Гиббона до Бокля. Давая новые определения свободе воли и закону необходимости, он ставит исторической науке требования изучения и определения законов, по которым совершается движение человечества.
Если же ко всему этому придать художественность изображения всех явлений человеческой жизни, от едва уловимого внутреннего движения души человеческой до изображения стотысячных армий, смешавшихся в адской битве на Бородинском поле, то получится впечатление необъятности этого произведения, которое, думаем мы, составляет одно из крупнейших событий в жизни Л. Н-ча Толстого.
Но жизнь эта была так полна, так разнообразна и всеобъемлюща, что, несмотря на большую трату ее, ушедшую на создание этого произведения, она проявлялась в то же время еще и во многих менее значительных фактах, к описанию которых мы теперь и приступим.
Глава 4. Из частной жизни Льва Николаевича 60-х годов
В нашем кратком историческом очерке «Войны и мира» мы оставили личную жизнь Л. Н-ча на том моменте, когда он, вылечив свою вывихнутую руку, вернулся домой, т. е. в декабре 1864 года.
В 1865 году он еще продолжает вести свой дневник. 7-го марта он кратко описывает: «Начинаю любить сына».
В сентябре 1864 г. со своею всегдашнею искренностью он записал: «Сын мало близок». Очевидно, что чувства Левина к новорожденному сыну, описанные к «Анне Карениной», списаны Л. Н-чем с натуры, с самого себя. Но малейший проблеск человеческого образа – и Лев Николаевич уже чувствует в себе зарождение отеческой любви.
Весной 1865 года, независимо от работ по писанию «Войны и мира», Л. Н-ч опять читал Гете. В его дневнике того времени есть заметка о «Фаусте» Гете: «Поэзия мысли и поэзия, имеющая предметом то, что не может выразить никакое другое искусство».
Осенью того же года мы находим такую интересную заметку о чтении:
«Читал Троллопа – хорошо. Есть поэзия романиста: 1) в интересе сочетания событий – Бреддон, мои «Казаки» (будущие); в картине нравов, построенных на историческом событии – «Одиссея», «Илиада», «1805 год»; 3) в красоте и веселости положения – Пиквик, «Отъезжее поле»; в характерах людей – Гамлет – мои будущие… А. Г. – распущенность, Ч. – тупой ум, С. – ограниченность успеха, Н. – лень, С. Л. – строгость, честность, тупоумие».
Таким образом, Л. Н-ч сам поставил свои произведения на подобающие им места, рядом с известными произведениями всемирной литературы.
Порой Л. Н-ча охватывала жажда любви к себе и другим. Очевидно, благополучная семейная жизнь не могла удовлетворить его. Она отвлекала его своей суетой от его внутренней работы, но не могла подавить в нем жившего в нем строгого судьи, который нет-нет, да и даст знать о себе.
Так, в феврале 1865 года Л. Н-ч писал Т. А. Берс:
«Да, вот я рассуждаю уж 2-ой день, что очень грустно оттого, что на свете все эгоисты, из которых первый я сам. Я не упрекаю никого, но думаю, что это очень скверно, и что нет эгоизма только между мужем и женой, когда они любят друг друга. Мы живем теперь 2 месяца одни-одинешеньки с детьми, которые первые эгоисты, и никому до нас дела нет. В Пирогове нас забыли и в Москве, думаем, тоже. И сам понемножку забываешь. Я не могу рассказать, что я хочу, но ты очень молода и потому, может быть, поймешь, а мне два дня все это одно в голове. И особенно Феты навели меня на эту мысль. Как хорошо тому жить и с тем жить, кто умеет любить! Ты, пожалуйста, напиши (все равно, правда или неправда ли), что ты нас любишь – для нас. Я Лорку (собачку) полюбил за то, что она не эгоистка. Как бы это выучиться так жить, чтобы всегда радоваться другому счастью. Ты никому не читай, что я пишу, а то подумают, что я с ума сошел. Я только проснулся и в голове сумбур и раздражение, как будто мне 15 лет, и все хочется понять, чего нельзя понять, и ко всем чувствуешь нежность и раздражение».
Февраль и часть марта они проводили в Москве. Л. Н-ч в заботах о хозяйстве пишет своей тетушке Татьяне Александровне, жившей в Ясной:
«Мы живем по-старому. Соня и дети, слава богу, здоровы. У Берсов тоже все хорошо. Мы видаемся с ними каждый день и каждый день кто-нибудь у нас или мы у кого-нибудь бываем – Перфильевы, Горчаковы, Оболенский маленький с женою. Нынче у меня будет Чичерин, которого вы так любите и который все такой же. Я думаю, Соня вам припишет еще, я же признаюсь, тороплюсь, и пишу с тем, чтобы попросить вас о милости. Я послал вчера на ваше имя семян. Будьте так добры, отдайте их садовнику и скажите, чтобы семена оранжерейных растений, как-то: азалий, камелий, акаций и т. п., не сеял до моего приезда, ежели он не знает верно, в какой земле и как их надо сеять. Мы еще не получили от вас ничего; пожалуйста, напишете нам два слова, чтобы только мы знали, что вы здоровы. Что Сережа и Машенька с детьми?»
При первой возможности они возвращаются в Ясную. Там снова идет семейная суета, родные, гости, хозяйство, охота.
В мае Л. Н-ч пишет интересное письмо Фету, выражая в нем свое настроение:
«Простите меня, любезный Афанасий Афанасьевич за то, что долго не отвечал вам. Не знаю, как это случилось. Правда, в это время был болен один из детей, и я сам едва удержался от сильной горячки и лежал три дня в постели. Теперь у нас все хорошо и даже очень весело.
У нас Таня, потом сестра со своими детьми, и наши дети здоровы и целый день на воздухе. Я все пишу понемножку и доволен своею работою. Вальдшнепы все еще тянут, и я каждый вечер стреляю по ним, т. е. преимущественно мимо. Хозяйство мое идет хорошо, т. е. мало тревожит меня, – все, что я от него требую. Вот все про меня. На ваш вопрос упомянуть о Ясной Поляне – школе, я отвечаю отрицательно. Хотя ваши доводы и справедливы, но про нее журналы забыли, и мне не хочется напоминать, не потому чтобы я отрекался от выраженного там, но, напротив, потому что не перестаю думать об этом, и ежели бог даст жизни, надеюсь еще из всего этого составить книгу с тем заключением, которое вышло для меня из моего трехлетнего страстного увлечения этим делом. Я не понял вполне то, что вы хотите сказать в статье которую вы пишите, тем интереснее будет услышать от вас, когда свидимся. Наше дело земледельческое теперь подобно делам акционера, который бы имел акции, потерявшие цену и не имеющие хода на бирже. Дело очень плохо. Я для себя решаю его только так, чтобы оно не требовало от меня столько внимания и участия, чтобы это участие лишало меня моего спокойствия. Последнее время я своими делами доволен, но общий ход дел, т. е. предстоящее народное бедствие голода, с каждым днем мучает меня больше и больше. Так странно и даже хорошо и страшно. У нас за столом редиска розовая, желтое масло, подрумяненный мягкий хлеб на чистой скатерти, в саду зелень, молодые наши дамы в кисейных платьях рады, что жарко и тень, а там этот злой черт, голод, делает уже свое дело, покрывает поля лебедой, разводит трещины по высохнувшей земле и обдирает мозольные пятки мужиков и баб и трескает копыта у скотины. Право, страшные у нас погода, хлеба и луга. Как у вас? Напишите повернее и поподробнее. Боткин у вас. Пожмите ему от меня руку. Зачем он ко мне не заезжает? Я на днях еду в Никольское еще один, без семьи, и потому ненадолго и к вам приеду. Но то-то хорошо было бы, коли бы в это же время судьба принесла вас к Борисову. Кланяюсь от себя и жены Марье Петровне. Мы в июне намерены со всею семьей переехать в Никольское, тогда увидимся, и я уж, наверное, буду у вас. Что за злая судьба на вас? Из ваших разговоров я всегда видел, что одна только в хозяйстве была сторона, которую вы сильно любили и которая радовала вас, – это коннозаводство, и на него-то и обрушилась беда. Приходится вам опять перепрягать свою колесницу, а «юхванство» перепрячь из оглобель на пристяжку, а мысль и художество уж давно у вас переезжены в корень. Я уж перепряг и гораздо покойнее поехал. «Довольно» мне не нравится. Личное, субъективное хорошо только тогда, когда оно полно жизни и страсти, а тут субъективность, полная безжизненного страдания».
В конце мая Л. Н-ч едет в Никольское, свое второе имение (бывшее имение брата Николая), и делает распоряжение о ремонте, чтобы можно было переехать туда с семьей. Они действительно переезжают туда в июне.
В Никольском Л. Н-ч продолжает писать «Войну и мир». Они жили тихо. Посетителей было очень мало, лишь соседями за 15 верст были Дьяковы, и они довольно часто виделись с ними.
В Никольском же навестили Толстых супруги Феты. С присущим ему юмором Фет рассказывает об этом посещении:
«Невзирая на некоторую тесноту помещения, мы были приняты семейством графа с давно испытанною нами любезностью и радушием. С приезжими хозяевами был двухлетний сынок, требовавший постоянного надзора, и девочка у груди. Кроме того, у них гостила прелестная сестра хозяйки. К приятным воспоминаниям этого посещения у меня присоединяется и неприятное. Я вообще терпеть не могу кислого вкуса или запаха, а тут, как нарочно, Л. Н. задавался мыслью о целебности кумыса, и в просторных сенях за дверью стояла большая кадка с этим продуктом, покрытая рядиной, и распространяла самый едкий кислый запах. Как бы не довольствуясь самобытной кислотой кумыса, Лев Николаевич восторженно объяснял простоту его приготовления, при котором в прокислое кобылье молоко следует только подливать свежего, и неистощимый целебный источник готов.
При этом граф брал в руки торчащее из кадки весло и собственноручно мешал содержимое, прибавляя: «Попробуйте, как это хорошо!» Конечно, распространявшийся нестерпимый запах говорил гораздо сильнее приглашения.
Когда вечером детей уложили, я по намекам дам упросил графа прочесть что-либо из «Войны и мира». Через две минуты мы были унесены в волшебный мир поэзии и поздно разошлись, унося в душе чудные образы романа.
На другой день мы заранее просили графиню поторопить с обедом, чтобы не запоздать в дорогу.
– Ах, как это будет хорошо! – сказал граф. – Мы все вас проводим в большой линейке. Обвезем вас вокруг фатального леса и возвратимся домой с уверенностью вашего благополучного прибытия в Новоселки.
Но вот обед кончился, и я попросил слугу приказать запрягать.
– Да, да, всем запрягать! – восклицал граф. – Тройкой долгушу, и мы все пятеро поедем вперед, а ваш тарантас за нами.
Прошло более часа, а экипаж не подают. Я выбежал в сени и, услыхав от слуги обычное «сейчас», – на некоторое время успокоился. Однако через полчаса я снова вышел в сени с вопросом: «что же лошади?» На новое «сейчас» я воскликнул:







