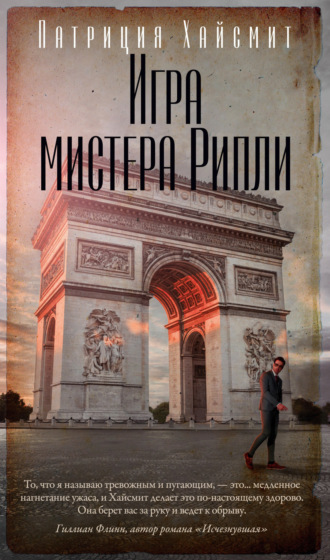
Патриция Хайсмит
Игра мистера Рипли
Доктор Перье между тем похлопывал его по руке.
– Ваш приятель – не стану спрашивать, кто он, – либо заблуждается, либо это, по-моему, не очень хороший приятель. А теперь послушайте-ка. Вы должны обратиться ко мне, когда действительно почувствуете утомляемость, и только на это стоит обращать внимание…
Спустя двадцать минут Джонатан поднимался по ступенькам своего дома, держа в руках коробку с яблочным пирогом и длинный батон. Открыв дверь ключом, он прошел через прихожую на кухню. Оттуда тянуло запахом жареной картошки – этот запах, от которого слюнки текут, всегда предвосхищал обед, а не ужин. Симона обычно нарезала картошку тонкой соломкой, а не круглыми ломтиками, как чипсы в Англии. И что это ему вспомнились английские чипсы?
Симона стояла возле плиты в переднике поверх платья и орудовала длинной вилкой.
– Привет, Джон. Что-то ты поздно.
Джонатан обнял ее и поцеловал в щеку, затем поднял коробку и покачал ею перед Джорджем, который, склонив светловолосую голову над столом, вырезал из пустой картонки из-под кукурузных хлопьев части для своей конструкции.
– А, пирог! С чем? – спросил Джордж.
– С яблоками.
Джонатан поставил коробку на стол.
Каждый съел по небольшому бифштексу с вкусной жареной картошкой и зеленым салатом.
– Брезар затеял инвентаризацию, – сказала Симона. – На следующей неделе привезут летнюю коллекцию, поэтому он собирается устроить распродажу в пятницу и субботу. Возможно, сегодня вернусь попозже.
Она подогрела яблочный пирог на асбестовой огнеупорной тарелке. Джонатан с нетерпением ждал, когда Джордж отправится в гостиную играть или пойдет гулять в сад. Когда сын наконец ушел, он сказал:
– Забавное письмо получил я сегодня от Алана.
– От Алана? И что в нем забавного?
– Он отправил его перед самым отъездом в Нью-Йорк. Похоже, он прослышал… – Надо ли показывать ей письмо Алана? Читать по-английски она умеет. Джонатан решил продолжить. – Он где-то слышал, что мне хуже, что у меня вот-вот будет серьезный кризис или что-то вроде этого. Ты что-нибудь об этом знаешь?
Джонатан следил за ее взглядом.
Симона, казалось, была искренне удивлена.
– Да нет, Джон. От кого я могу об этом услышать, как не от тебя?
– Я только что разговаривал с доктором Перье. Поэтому и задержался немного. Перье говорит, что не видит ухудшения в моем состоянии, но ты же знаешь Перье! – Джонатан улыбнулся, по-прежнему внимательно глядя на Симону. – Вот, кстати, это письмо, – сказал он, вынимая его из заднего кармана. Он перевел ей тот самый абзац.
– Mon dieu![5] А он-то откуда узнал?
– Вот в том-то и вопрос. Напишу ему и спрошу. Ты как думаешь?
Джонатан еще раз улыбнулся, на сей раз искренне. Теперь он был уверен, что Симоне ничего об этом не известно.
Прихватив вторую чашку кофе, Джонатан отправился в гостиную, где Джордж успел растянуться на полу среди вырезанных им кусков картона. Джонатан сел за письменный стол, за которым он всегда чувствовал себя на высоте. Это был довольно изысканный французский письменный стол, подарок семьи Симоны. Джонатан старался не облокачиваться слишком сильно на столешницу. Конверт с пометкой «авиа» он адресовал в гостиницу «Нью-Йоркер», Алану Макниру. После нескольких ничего не значащих фраз в начале он написал:
«Не совсем понимаю, что ты имел в виду в своем письме, когда упомянул новости (обо мне), которые тебя шокировали. Я чувствую себя хорошо, и сегодня утром разговаривал со своим врачом, чтобы убедиться, всю ли правду он мне сказал. Он утверждает, что перемены к худшему в моем состоянии нет. Поэтому, дорогой Алан, меня вот что интересует – где ты это услышал? Не мог бы ты черкнуть мне пару строк в ближайшее время? Похоже, тут какое-то недоразумение. Я бы и рад все забыть, но, надеюсь, ты поймешь, почему мне хочется знать, где ты об этом услышал».
По пути в свой магазин он бросил письмо в желтый почтовый ящик. Раньше чем через неделю ответ от Алана не придет.
В этот день Джонатан, как обычно, уверенно водил острым ножом вдоль края железной линейки. Он думал о своем письме, как оно добирается в аэропорт Орли и, возможно, будет там сегодня вечером, а может, завтра утром. Он вспомнил о своем возрасте – тридцать четыре года – и подумал, как мало успел сделать, а ведь, возможно, ему придется умереть месяца через два. Он произвел на свет сына, а это уже достижение, хотя отнюдь не из тех, которые заслуживают особой похвалы. Симону он оставит не очень обеспеченной. Пожалуй, уровень ее жизни даже понизился, и он тому виной. Ее отец всего-навсего торговец углем, но в продолжение ряда лет семья сумела окружить себя кое-какими житейскими удобствами, машиной, например, приличной мебелью. В июне или июле они обычно отдыхали на юге, арендовали виллу, а в прошлом году заплатили за месяц, чтобы Джонатан и Симона смогли поехать туда с Джорджем. Дела Джонатана обстояли хуже, чем у его брата Филиппа, который был на два года старше, хотя физически Филипп выглядел послабее; скучный тип, корпит всю жизнь. Теперь Филипп профессор антропологии в Бристольском университете, особо не выделяется – в этом Джонатан уверен, – но на ногах стоит твердо, делает карьеру, имеет жену и двоих детей. Мать Джонатана, вдова, счастливо живет в Оксфордшире со своим братом и невесткой, ухаживает там за большим садом, ходит за покупками и готовит. Джонатан чувствовал себя неудачником в семье, – это касалось как здоровья, так и работы. Сначала он хотел быть актером. С восемнадцати лет два года ходил в театральную школу. Лицо, как ему казалось, у него вполне подходящее для этой профессии, не слишком красивое – большой нос, широкий рот, – однако достаточно смазливое, чтобы играть романтические роли. И фигура довольно плотная, чтобы со временем играть более солидных персонажей. Что за нелепые мечты! Он и пары проходных ролей не получил за те три года, что слонялся по лондонским и манчестерским театрам, – при этом кормился, разумеется, случайными заработками, например был помощником ветеринара. «Места на сцене ты занимаешь много, а толком себя подать не можешь», – сказал ему однажды режиссер. А потом, устроившись ненадолго в антикварную лавку, Джонатан понял, что торговля антиквариатом ему по душе. Всему, что требуется, он научился у своего босса, Эндрю Мотта. Затем вместе с приятелем Роем Джонсоном они совершили великое переселение во Францию. Тот тоже был полон энтузиазма и хотел открыть антикварный магазин, начав с торговли старьем, хотя знаний и у него недоставало. Джонатан не забыл, с какой надеждой на успех и благополучие он отправлялся во Францию, как рассчитывал на везение и предвкушал свободу. А вместо удачи, вместо того чтобы набраться опыта с помощью череды любовниц, вместо того чтобы сойтись с богемой или с тем близким к искусству слоем французского общества, который, по представлению Джонатана, все-таки существовал, – вместо всего этого ковылял еле-еле по жизни и чувствовал себя не намного увереннее, чем в ту пору, когда пытался найти работу актера или обеспечивал себя случайными заработками.
Джонатан подумал о том, что единственная его удача в жизни – женитьба на Симоне. О своей болезни он узнал в тот самый месяц, когда познакомился с Симоной Фусадье. Он стал быстро утомляться и романтически объяснял это тем, что влюбился. Однако кратковременный отдых не избавлял его от усталости. Однажды в Немуре он потерял сознание на улице и после этого решил обратиться к врачу. Доктор Перье из Фонтенбло высказал предположение, что у него что-то неладно с кровью, и направил его в Париж к доктору Муссю. Через два дня диагноз был установлен – миелолейкоз. Муссю сказал, что жить ему осталось шесть-восемь, если повезет – двенадцать лет. Увеличится селезенка, что, по сути, уже и произошло, и Джонатан не мог этого не заметить. Таким образом, сделав предложение Симоне, Джонатан одновременно объявил и о любви, и о смерти. Наверное, любая другая молодая женщина в подобной ситуации отказала бы ему или же сказала, что ей нужно время, чтобы подумать. Симона ответила «да», потому что тоже его полюбила. «Любовь – это главное, а там видно будет», – сказала тогда Симона. Раньше Джонатан приписывал французам, да и другим романским народам, расчетливость, однако тут ее и в помине не оказалось. Симона сказала, что уже переговорила с родителями. И это спустя всего две недели после того, как они познакомились. Джонатан вдруг почувствовал себя гораздо увереннее, чем когда-либо прежде. Любовь, настоящая, а не романтическая, любовь, над которой он был не властен, чудесным образом спасла его, он это чувствовал, как и то, что с любовью ушел страх перед смертью. Как предсказывал доктор Муссю из Парижа, смерть придет через шесть лет. Может быть. Джонатан не знал, чему верить.
Надо бы еще разок съездить в Париж к доктору Муссю, подумал он. Три года назад в парижской больнице Джонатану сделали полное переливание крови под его наблюдением. Смысл этой процедуры заключается в том, чтобы понизить содержание белых кровяных телец – только на это и оставалось надеяться. Но спустя восемь месяцев количество лейкоцитов вновь повысилось.
Однако, прежде чем договориться с доктором Муссю о встрече, Джонатан решил дождаться письма от Алана Макнира. Алан ответит сразу, в этом Джонатан был уверен. На Алана можно рассчитывать.
Перед уходом Джонатан осмотрел магазин. Интерьер точно из какого-нибудь романа Диккенса. Дело не в пыли, надо что-то делать со стенами. Может, попробовать навести внешний лоск, а для этого начать обдирать покупателей, как это делают многие торговцы рамами для картин, продавать лакированные, под бронзу, изделия по завышенным ценам? Джонатан поморщился. Ну уж нет, он не из таких.
Это было в среду. А в пятницу, корпя над неподатливым шурупом с ушком, который сидел в дубовой раме лет, наверное, сто пятьдесят и не имел намерения уступать клещам, Джонатан вдруг бросил инструмент и оглянулся, куда бы ему сесть. Возле стены стоял деревянный ящик, на который он и опустился, но почти тотчас же поднялся и вымыл лицо, низко склонившись над раковиной. Минут через пять слабость прошла, а к обеду он и вовсе позабыл о ней. Такие минуты бывали каждые два-три месяца, и Джонатан радовался, если упадок сил не заставал его на улице.
Во вторник, через шесть дней после отправки письма Алану, он получил ответное письмо из гостиницы «Нью-Йоркер».
«Суббота, 25 марта
Дорогой Джон!
Поверь мне, я рад, что ты переговорил со своим врачом и что у тебя хорошие новости! О том, что у тебя серьезные проблемы, мне рассказал лысоватый, небольшого роста человек с усами и стеклянным глазом, лет, наверно, сорока с небольшим. Похоже, он был сильно этим огорчен, и тебе, пожалуй, не стоит на него чересчур сердиться, потому как он, скорее всего, слышал об этом от кого-то еще.
Мне нравится этот город. Мне бы хотелось, чтобы и вы с Симоной составили мне компанию. Особенно если учесть, что я в командировке и за меня платят…»
Того, о ком говорил Алан, звали Пьер Готье. Он держал магазин художественных принадлежностей на улице Гранд. Готье не был приятелем Джонатана – так, знакомый. Он часто присылал кого-нибудь к Джонатану с просьбой вставить картину в раму. Джонатан отчетливо помнил, что Готье был у них в доме на вечеринке в честь отъезда Алана, и тогда-то, наверное, они с Аланом и поговорили. О том, что Готье имел какие-то дурные намерения, затевая этот разговор, не могло быть и речи. Джонатана несколько удивляло лишь то, что Готье вообще знал о его болезни, хотя слухи на этот счет ходили, как понимал Джонатан. Надо бы поговорить с Готье и спросить, от кого он об этом услышал, подумал Джонатан.
Утром Джонатан решил дождаться почты, как и накануне. Его подмывало тотчас отправиться к Готье, но он подумал, что тем самым проявит ненужное беспокойство и лучше сначала пойти в свой магазин и открыть его, как обычно.
Из-за трех-четырех утренних посетителей Джонатан не мог сделать перерыва до 10:25. После их ухода он повесил на стеклянной двери табличку с нарисованными на ней часами, извещавшую о том, что магазин снова откроется в одиннадцать часов.
Когда Джонатан вошел к Готье, тот был занят с двумя покупательницами. Джонатан побродил среди полок с кистями, пока Готье не освободился.
– Мсье Готье, – обратился он к нему наконец. – Как идут дела? – и протянул руку.
Готье сжал протянутую руку двумя ладонями и улыбнулся:
– А у вас, мой друг?
– Неплохо, спасибо… Ecoutez[6]. Не хочу занимать у вас много времени, но все же хотел бы кое-что спросить.
– Да-да? В чем дело?
Джонатан поманил Готье, чтобы тот отошел подальше от двери, которая могла в любой момент открыться. В маленьком магазине негде было повернуться.
– Я узнал кое-что от приятеля – его зовут Алан, помните? Англичанин. Он был на вечеринке несколько недель назад у меня дома.
– Ну да! Ваш друг, англичанин. Але́н, – произнес Готье по-французски.
Он вспомнил его и, казалось, внимательно слушал.
Джонатан старался не замечать искусственный глаз Готье и смотрел в другой.
– Кажется, это вы сказали Алану, что слышали, будто я очень болен, так что, скорее всего, долго не протяну.
На спокойном лице Готье появилось выражение озабоченности. Он кивнул:
– Да, мсье, я слышал об этом. Надеюсь, это неправда. Я помню Алена, потому что вы представили мне его как своего лучшего друга. Поэтому я и решил, что он знает. Наверное, мне не стоило этого говорить, простите меня за бестактность. Я думал, что у вас – как говорят англичане – уверенность лишь на лице.
– Ничего страшного, мсье Готье, поскольку уж я-то знаю, что это неправда! Я только что разговаривал со своим врачом. Но…
– Ah, bon![7] Это совсем другое дело! Рад это слышать, мсье Треванни! Ха-ха!
Пьер Готье от души рассмеялся, словно узнал, что духи изгнаны и не только Джонатану, но и ему теперь жить да жить.
– Но мне бы хотелось знать, от кого вы это услышали. Кто вам сказал, что я болен?
– Ах да! – Готье прижал палец к губам и задумался. – Кто? Один человек. Ну да, один человек.
Он мог бы назвать его, но медлил.
Джонатан ждал.
– Но помню, он говорил, что не уверен. Говорил, слышал от кого-то. По его словам, у вас неизлечимая болезнь крови.
Джонатан опять почувствовал какую-то тревогу, что с ним уже бывало не раз в течение последних нескольких дней. Он облизнул пересохшие губы.
– Но кто? Откуда он об этом узнал? Он не говорил?
Готье снова заколебался:
– Раз это неправда, может, лучше не стоит и говорить об этом?
– Вы с ним хорошо знакомы?
– Нет! Уверяю вас, не очень.
– Покупатель?
– Да-да. Покупатель. Очень приятный человек. Но раз уж он сказал, что не уверен… право же, мсье, не сердитесь, хотя я и понимаю, как это вас задело.
– Отсюда возникает интересный вопрос: откуда этот приятный человек узнал о том, что я очень болен? – продолжал Джонатан, в свою очередь рассмеявшись.
– Да-да. Вот именно! Но ведь это не так. Разве не это главное?
Джонатан понял, что в Готье заговорила французская учтивость и нежелание потерять покупателя, а также – что вполне объяснимо – отвращение к разговору о смерти.
– Вы правы. Это главное.
Джонатан пожал Готье руку, сказал ему «adieu»[8], при этом оба улыбались.
В тот же день за обедом Симона спросила Джонатана, не слышно ли чего-нибудь от Алана. Джонатан ответил утвердительно:
– Это Готье сказал Алану.
– Готье? Тот самый, что торгует художественными принадлежностями?
– Да.
За кофе Джонатан закурил сигарету. Джордж гулял в саду.
– Сегодня утром я был у Готье и спросил, от кого он об этом услышал. Он сказал, что от одного покупателя. Смешно, правда? Готье так и не сказал мне, кто это, да я и не виню его. Конечно же, вышла какая-то ошибка. Готье и сам это понимает.
– Но ведь это ужасно, – сказала Симона.
Джонатан улыбнулся, понимая, что для нее это вовсе не ужасно, ведь она-то знала, что доктор Перье сообщил ему весьма хорошие новости.
– Не надо, как говорится, делать из мухи слона.
На следующей неделе Джонатан столкнулся с доктором Перье на улице. Доктор спешил в «Сосьете женераль»[9], куда хотел попасть до двенадцати часов – до закрытия. Однако он все-таки остановился и спросил у Джонатана, как тот себя чувствует.
– Вполне хорошо, спасибо, – ответил Джонатан.
Мыслями он был в магазине, который находился в сотне ярдов и также закрывался в полдень; там он намеревался купить вантуз.
– Мсье Треванни…
Доктор Перье стоял, держась за большую ручку двери банка. Отойдя от двери, он приблизился к Джонатану.
– Что касается того, о чем мы говорили на днях… вы ведь понимаете, ни один врач не может быть до конца уверен. Особенно в таком случае, как ваш. Не хотелось, чтобы вы думали, будто я гарантировал вам полное здоровье, иммунитет на годы вперед. Вы ведь и сами знаете…
– Да я вовсе так не думаю! – перебил его Джонатан.
– Значит, вы все правильно поняли, – улыбнувшись, произнес доктор Перье и тотчас устремился в банк.
Джонатан отправился дальше на поиски вантуза. Вообще-то, у них засорилась раковина на кухне, а не туалет. Симона еще несколько месяцев назад одолжила вантуз у соседей. Но теперь его больше занимало то, что сказал ему доктор Перье. Может быть, он что-то знает, может, последние анализы дали какие-то подозрительные результаты, но пока у него нет достаточных оснований, чтобы говорить ему об этом?
У дверей droguerie[10] Джонатан увидел улыбающуюся темноволосую девушку, которая как раз запирала замок.
– Извините, уже пять минут первого, – сказала она.
3
В последнюю неделю марта Том был занят тем, что писал портрет Элоизы, возлежавшей в полный рост на обтянутом желтым шелком диване. Элоиза редко соглашалась позировать. А вот диван стоял на одном и том же месте, и Тому удалось сносно изобразить его на холсте. Он сделал также семь или восемь эскизов Элоизы: она лежала, подперев голову левой рукой, тогда как правая рука покоилась на альбоме по искусству. Два лучших он отобрал для дальнейшей работы, остальные отложил.
Ривз Мино написал ему письмо, интересуясь, не пришла ли Тому в голову какая-нибудь дельная мысль, – он имел в виду их разговор. Письмо пришло спустя пару дней после того, как Том переговорил с Готье, у которого обычно покупал краски. Том ответил Ривзу: «Пытаюсь что-нибудь придумать, а пока пошевели мозгами, может, и самому что-нибудь в голову придет». Фраза «пытаюсь что-нибудь придумать» была всего-навсего вежливой, даже лживой отговоркой, как и многие другие выражения, служащие для смазки механизма общения между людьми, как выразилась бы Эмили Поуст[11]. В финансовом плане Ривз не очень-то «смазывал» Бель-Омбр; напротив, оплата Ривзом посреднических услуг, которые Том оказывал ему время от времени, покрывая разные его делишки, едва оправдывала расходы на химчистку, но не стоило пренебрегать дружескими отношениями. Ривз достал фальшивый паспорт и быстро переправил его в Париж, когда Тому понадобился документ в деле о «Дерватт лимитед». Может статься, Ривз когда-нибудь еще пригодится Тому.
А вот затея с Джонатаном Треванни была для Тома лишь игрой. Он занимался всем этим вовсе не в угоду любившему рисковать Ривзу. Тóму разонравился риск, и он не уважал тех, кто зарабатывал себе на жизнь – или хотя бы подрабатывал, – пускаясь в авантюры. Это ведь своего рода слабость. Том затеял игру с Треванни из любопытства, потому что тот как-то посмеялся над ним, и еще Тому хотелось посмотреть, попадет ли он в цель, выстрелив наудачу, не заставит ли хоть какое-то время Джонатана Треванни поволноваться, а Том чувствовал, что это человек самоуверенный, не сомневающийся в своей правоте. Потом Ривз забросит удочку, внушив, естественно, Треванни, что он все равно скоро умрет. Том сомневался, что Треванни клюнет, но для него настанут нелегкие времена, уж это точно. К сожалению, Том не мог предположить, как скоро слухи дойдут до ушей Джонатана Треванни. Готье, вообще-то, любил распускать сплетни, но может так случиться, если даже Готье и расскажет двоим-троим знакомым, что ни у кого не хватит смелости затеять этот разговор с самим Треванни.
Поэтому Том, хотя и был, по обыкновению, занят живописью, весенними посадками, изучением немецкой и французской литературы (теперь он взялся за Шиллера и Мольера) плюс к тому надзором за работой трех каменщиков, которые возводили теплицу по правой стороне сада за Бель-Омбр, продолжал считать проходившие дни и пытался представить себе, как складывались события после того дня в середине марта, когда он сказал Готье, что слышал, будто Треванни долго не протянет. Невелика вероятность, что Готье переговорит с Треванни напрямую, если только они не знакомы ближе, чем предполагал Том. Готье скорее расскажет об этом кому-нибудь другому. Том рассчитывал (а на это не рассчитывать нельзя), что угрожающая кому-то неминуемая смерть никого не оставит равнодушным.
Том ездил в Фонтенбло, что милях в двенадцати от Вильперса, примерно каждые две недели. В Фонтенбло по сравнению с Море́ был больший выбор магазинов, химчисток, где можно вычистить замшевые пиджаки, лавок, где есть батарейки для транзисторного радиоприемника и всякие необходимые вещи, которые мадам Аннет хотела бы иметь на кухне. В магазине у Треванни был телефон, что Том отметил, заглянув в справочную книгу, а в доме на улице Сен-Мерри телефон, очевидно, отсутствовал. Том попытался было выяснить номер дома, но решил, что и так узнает дом, когда увидит. К концу марта ему захотелось из любопытства еще раз взглянуть на Треванни, разумеется, со стороны, поэтому, приехав в Фонтенбло как-то в пятницу утром, в базарный день, чтобы купить два круглых терракотовых горшка для цветов, Том положил их в багажник «рено» и прошелся по улице Саблон, где находился магазин Треванни. Близился полдень.
Магазин Треванни явно нуждается в покраске, подумал Том, и смотрится уж больно непритязательно, будто его хозяин – старик. Том никогда не пользовался услугами Треванни, потому что ближе, в Морé, работал хороший мастер по изготовлению рам. Небольшой магазинчик с деревянной вывеской над дверью, на которой выцветшими красными буквами было выведено «Encadrement»[12], соседствовал с другими заведениями – прачечной, сапожной мастерской, скромным бюро путешествий. Дверь в магазин находилась слева, а справа – квадратное окно, в котором были выставлены рамы разных размеров и две-три картины с прикрепленными к ним бирками с ценой. Том небрежно пересек улицу, заглянул в магазин и увидел высокую, как у скандинава, фигуру Треванни, стоявшего за прилавком футах в двадцати от Тома. Треванни, показывая покупателю рамку, постукивал ею по ладони и при этом что-то говорил. Потом он посмотрел в окно, взглянул на Тома и продолжил разговор с покупателем. В лице его не произошло никакой перемены.
Том отправился дальше. Он понял, что Треванни его не узнал. Том повернул налево, на улицу Франс, следующую по значению после улицы Гранд, и продолжил свой путь до улицы Сен-Мерри, где повернул направо. Или к дому Треванни идти налево? Нет, направо.
Ну да, вот и он, разумеется, – узкий, с виду тесноватый, серый дом с тонкими черными перилами на лестнице, ведущей к двери. По бокам ступеньки зацементированы, и на них даже горшков с цветами не поставили, чтобы хоть как-то скрасить подход к дому. Однако Том вспомнил, что за домом есть сад. Неровно повешенные занавески закрывали сверкавшие чистотой окна. Да, именно сюда он и приходил по приглашению Готье в тот февральский вечер. Вдоль левой половины дома тянется узкий проход, который, по-видимому, ведет в сад. Проход упирается в железную калитку, запертую на висячий замок, а перед ней стоит зеленый пластмассовый бак для мусора. Том подумал, что обитатели дома обычно выходят в сад через дверь кухни – ее он помнил.
Том медленно шел по противоположной стороне улицы, стараясь не привлекать к себе внимания, поскольку не был уверен в том, что жена Треванни или кто-то другой не смотрит в окно.
Что бы ему купить? Цинковые белила. Они почти кончились. А для этого нужно зайти к Готье, торгующему всем, что необходимо художнику. Том ускорил шаг, поздравив себя с тем, что цинковые белила ему действительно нужны, так что в магазин Готье он придет с определенной целью, а заодно и удовлетворит любопытство.
Готье был один.
– Bonjour[13], мсье Готье! – сказал Том.
– Bonjour, мсье Рипли! – улыбнувшись, отвечал Готье. – Как дела?
– Очень хорошо, благодарю вас, а вы как? Мне тут понадобились цинковые белила.
– Цинковые белила. – Готье выдвинул плоский ящичек из стоявшего у стены шкафа. – Вот. Вы, помнится, предпочитаете краски фирмы «Рембрандт»?
У Готье имелись и белила, и другие краски производства «Дерватт лимитед». Тюбики с автографами Дерватта, размашистыми, черного цвета, идущими наискось. Но Тому почему-то не хотелось заниматься дома живописью, если фамилия «Дерватт» будет попадаться на глаза всякий раз, когда ему понадобится тюбик с краской. Том расплатился. Протягивая ему сдачу и пакетик с цинковыми белилами, Готье сказал:
– Кстати, мсье Рипли, вы помните мсье Треванни, изготовителя рам для картин с улицы Сен-Мерри?
– Да, конечно, – ответил Том, который как раз размышлял над тем, как бы завести разговор о Треванни.
– Так вот, слухи о том, что он скоро умрет, несколько преувеличены. – При этом Готье улыбнулся.
– Вот как? Что ж, очень хорошо! Рад это слышать.
– Так-то. Мсье Треванни даже к врачу сходил. По-моему, он немного расстроен. А кто бы на его месте не расстроился, а? Ха-ха! Но вы, кажется, сказали, что вам кто-то об этом говорил, не так ли, мсье Рипли?
– Да. Один человек, который был тогда на вечеринке – в феврале. На дне рождения мадам Треванни. Вот я и решил, что это правда и все об этом знают.
Готье, казалось, задумался.
– А вы разговаривали с мсье Треванни? – спросил Том.
– Нет. Нет, не разговаривал. Но как-то вечером я беседовал с его лучшим другом, это было во время другого приема в доме у Треванни, в этом месяце. Кажется, он говорил с мсье Треванни. Как быстро разносятся слухи!
– С лучшим другом? – с невинным видом переспросил Том.
– Англичанин. Ален… фамилию не помню. Он собирался в Америку на следующий день. А вы, мсье Рипли, помните, кто вам об этом сказал?
Том медленно покачал головой:
– Ни фамилии не помню, ни даже как он выглядел. В тот вечер было столько народу.
– Дело в том… – Готье приблизился к Тому и заговорил шепотом, будто кто-то мог их услышать. – Видите ли, мсье Треванни спросил у меня, кто мне об этом рассказал, и я, конечно же, ему вас не назвал. Ведь в таких случаях можно все неправильно понять. Мне не хотелось, чтобы у вас были неприятности, ха-ха!
Сверкающий стеклянный глаз Готье не рассмеялся, но вызывающе уставился на Тома, словно этим глазом руководил отдельный участок мозга Готье, запрограммированный кем-то на то, чтобы знать все наперед.
– Спасибо вам за это, нехорошо ведь делать замечания о здоровье другого человека, да еще искажающие истинную картину, правда?
Том улыбался во весь рот. Перед тем как уйти, он прибавил:
– Но вы, кажется, говорили, что у мсье Треванни с кровью что-то не так?
– Говорил. По-моему, у него лейкемия. Но ведь он с ней живет. Он как-то сказал мне, что эта болезнь у него уже несколько лет.
Том кивнул:
– В любом случае я рад, что он вне опасности. A bientõt[14], мсье Готье. Большое спасибо.
Том направился к своей машине. Шок, испытанный Треванни, – состояние это, возможно, продолжалось лишь несколько часов, пока он не проконсультировался со своим врачом, – не мог хотя бы слегка не поколебать его самоуверенность. Нашлись люди – среди них, наверное, и сам Треванни, – поверившие, что он не проживет и несколько недель. И все потому, что возможность эта не исключается, когда речь идет о такой болезни, как у Треванни. Жаль, что он успокоился, но Ривзу, должно быть, хватит и того, что Треванни на какое-то время засомневался. Теперь игра входит во вторую стадию. Скорее всего, Треванни скажет Ривзу «нет». В этом случае игра закончится. С другой стороны, Ривз поведет с ним разговор как с человеком обреченным. Вот будет забавно, если Треванни даст слабину. В тот же вечер, пообедав с Элоизой и ее парижской приятельницей Ноэль, которая собиралась у них переночевать, Том оставил дам и напечатал на машинке письмо Ривзу.
«28 марта 19..
Дорогой Ривз!
У меня есть для тебя кое-что на случай, если ты еще не нашел того, кого ищешь. Его зовут Джонатан Треванни, лет тридцати с небольшим, англичанин, торговец рамами для картин, женат на француженке, у них маленький сын. (Далее Том написал домашний адрес Треванни, адрес и телефон магазина.) Деньжата, ему, кажется, не помешали бы, хотя это и не совсем тот человек, который тебе нужен. На вид он – сама порядочность и невинность, но что для тебя немаловажно, так это то, что, как я узнал, жить ему осталось лишь несколько месяцев или недель. У него лейкемия, и совсем недавно на него свалилась плохая новость. Возможно, он захочет взяться за какую-нибудь опасную работу, чтобы заработать немного денег.
Сам я с Треванни не знаком и не горю желанием познакомиться, так же как не хочу, чтобы ты ссылался на меня. Если хочешь прощупать его, предлагаю следующее: приезжай в Фонтенбло, остановись на пару дней в чудесном заведении под названием „Черный орел“, свяжись с Треванни по телефону, назначь встречу и переговори обо всем. Наверное, мне не нужно тебе напоминать, чтобы ты не называл свое настоящее имя».
Затея вдруг вызвала у Тома воодушевление. Он рассмеялся, представив себе Ривза, который с обезоруживающим видом неуверенности и тревоги – как бы на ощупь – выкладывает эту идею Треванни, а тот сидит недвижимо, как дух святой. Не заказать ли столик в ресторане или баре «Черного орла», когда Ривз будет встречаться там с Треванни? Нет, это уже чересчур. Тут Том вспомнил кое-что еще и сделал приписку:
«Когда приедешь в Фонтенбло, ни в коем случае не звони мне и не присылай записок. Письмо это прошу уничтожить.
Всегда твой,
Том».
4
В пятницу, 31 марта, днем, в магазине Джонатана зазвонил телефон. Он в это время приклеивал коричневую бумагу к задней стороне большой картины, и, прежде чем снять трубку, ему пришлось отыскать подходящие тяжелые предметы – старый камень с надписью «Лондон», баночку с клеем, деревянный молоток.
– Алло?
– Bonjour, мсье. Мсье Треванни?.. Вы, кажется, говорите по-английски? Меня зовут Стивен Уистер. У-и-с-т-е-р. Я приехал в Фонтенбло на пару дней. Не могли бы вы уделить мне несколько минут для разговора – я думаю, он вас заинтересует.
У говорившего был американский акцент.
– Я не покупаю картин, – ответил Джонатан. – Я делаю рамы.
– То, о чем я собираюсь говорить с вами не имеет отношения к вашей работе. Речь о другом, но это не телефонный разговор. Я остановился в «Черном орле».







