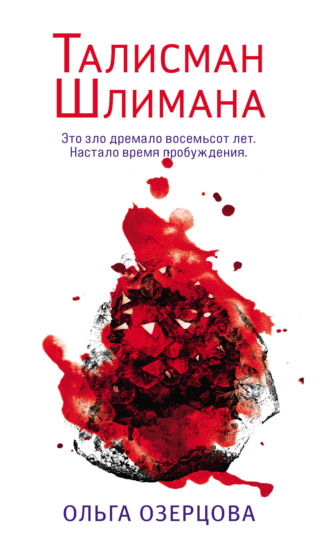
Ольга Озерцова
Талисман Шлимана
– И назовем статью «От древнегреческой трагедии до бестселлеров».
– Хорошо бы еще приправить это каким-нибудь родовым проклятием, чем древнее, тем лучше. Вроде проклятия рода Атридов или фараонов.
– А вы знаете, почему всегда только проклятие? Почему не благословение, посланное сквозь века?
– Интересная мысль. Об этом надо подумать.
– Раз бестселлер, нужны еще голые женщины. Обнаженные, я хотел сказать.
– Ну уж это по твоей части, Глеб.
– Кстати, то, что сейчас крутят по телевизору, никого уже не интересует. Должно быть что-то запретно-трепетное, как в Средние века. Даже туфелька под длинной юбкой их очень возбуждала.
– Глеб, не заменяй нам эротику башмаками. Уж лучше какие-нибудь магические обряды, их как раз совершали нагими.
– Ань, идея – критянки, длинные широкие юбки и обнаженная грудь…
– Пожалуй, вы правы, Глеб, даже я прочувствовал.
– А назовем это, Александр Владимирович, мистико-магическим эротизмом.
– Ну, с этим, я думаю, у нас будет все в порядке. Но нам еще надо постараться понять и услышать, ведь самое интересное происходит на грани. Надо быть свободными. Мы дадим себе полную свободу в чувствах, стиле, в восприятии древних цивилизаций. Хотя почему-то даже мне немного страшно…
– Скажи мне, чего ты боишься?
– Отпусти мою руку, о египтянин. Я не боюсь, с чего ты взял? Я спокойна, но покой этот странен, как будто я что-то сейчас услышу.
– Что ты можешь услышать, прекрасная дева? Как к лицу тебе наше платье! Все же странен другой твой наряд, привезенный с Кефтиу[5]. Дай мне руку. Одно в вашем платье дивно красиво. Ваши девы открывают грудь ветру и нашим взорам.
– Ты смеешься надо мной, египтянин. Мы раскрываемся звездам, богам и солнцу. Наше сердце, дыханье и кожа открыты миру. Если и вы вдруг взглянете – это случайность. Но я сегодня не хочу шутить. Ты пойдешь со мной по ступеням Джосера? У меня чувство, будто, когда я поднимаюсь по ним, иду ввысь, к небу. Еще ступень, и сейчас услышу…
– Что услышишь?
– Не знаю. Какой-то ветер…
Ты слышишь?..
Тихо и жарко. Пошли.
Тихо и жарко в Фестосе. И ветер тысячелетий шумит. Когда мы приехали на экскурсию, солнце пекло нещадно. Но если отойдешь от королевского дворца туда, к руинам покоя принцессы, – ветер крутит, срывает шляпу, он жаркий.
Что это было?
– Письма нашего учителя становятся все непонятнее. С ним творится что-то странное.
– Мне тоже так показалось. Это происходит с тех пор, как он уехал на Крит. Я думала, он поедет отдохнуть, а он…
– Он хочет понять загадку.
– Южный климат не для него. Вместо того чтобы купаться в море, он стал ездить по раскопкам… А знаешь, со мной тоже что-то такое случилось.
– С тобой? Что?
– Да так. Я шла в университет, смотрела, как шелестят ветви деревьев у дороги, и вдруг в душе возникло давнее, дальнее чувство, какая-то огромная внутренняя наполненность мира. Синий вечер, тонкие ветви, фонари, врезающиеся в глубь неба. Большое здание темнеет неровной причудливой громадой, его ярко-желтые окна призывно горят. Тысячи смехов, объятий, боли. И тут, как поется в студенческом фольклоре, «на фоне величественного здания МГУ появляется мятущаяся фигура студента». Я поднимаюсь по ступеням в главное здание и вдруг вижу нашу ученицу со второго курса. Она бежит торопливо, спотыкается, падает, быстро вскакивает, подбирает со ступенек выпавшую из сумки хрестоматию. Глаза у нее светлые и тревожные – спешит на свидание, а завтра экзамен. Наверное, эти ступени не забыли и мои глупые шаги, такие же юные… Глеб, ты помнишь эту жгучую жажду счастья? Казалось, умрешь без него, любишь всех людей, и будто чувствуешь – счастье на земле…
– Встать, что ли, на ту же ступеньку памяти, что и ты… Вот, очень ясно вижу, как утром мне не хочется просыпаться – нет ничего противнее пробуждения во время сессии. Натягиваешь на голову одеяло, будто это может спасти от экзамена или удержать в голове исчезающие знания. За завтраком пытаешься впихнуть в себя еще сто страниц, а потом плюешь и думаешь, вдруг на экзамене осенит. И ведь осеняло.
– Ты что, хочешь сказать, что никогда не бегал на свидание вместо того, чтобы готовиться к сессии?
– Хм-м… Знаешь, а я ведь действительно не забыл свое чувство на первых курсах. Сейчас мало кто поверит, что со мной могло быть такое. Странно, прошло столько лет, а мне иногда хочется вспомнить мою первую боль, понять ту юную любовь.
Сколько народу… Хоть бы на минуту ее увидеть! А зачем, собственно, она отвернется? Я за ней не побегу. Может быть, только поздороваемся. Я начинаю сомневаться, что она существует, и в то же время всматриваюсь, ища ее за пуховыми воротниками, хоть эти встречи нам ничего не дают, мы чужие… И неизвестно, кто еще больше виноват. Я иду на лекцию, поднимаюсь по лестнице, боюсь и хочу случайно ее встретить. Мне кажется, стены от этого желания должны растопиться, и тогда она почувствует. Вернее, я не ищу, не жду. Но эта бесконечная толпа, эти люди – среди них ведь может быть она…
– В общем, Ань, ты права, в студенческой жизни есть что-то волнующее, как хорошее вино. Кровь слегка шумит, хочется петь «Гаудеамус», «Возрадуемся»… Друзья мои, осторожнее!
– Ой, извините, – сказал поднимающийся по лестнице ученик.
– Чуть не выбил у меня из рук дипломат! Между прочим, с материалами для Александра Владимировича!.. Куда это они бегут? – спросил Глеб, провожая взглядом шумную ватагу учеников.
– Думаю, в буфет или на дискотеку. Сомнительно, чтобы на лекцию.
Ступенька – подъем, ступенька – паденье. Нас много, мы живем, мы разные, нас очень много. Поднимемся по ступенькам ко входу… Кто мы, что мы, куда мы идем?
Жизнь – в трепете веток, чувстве голода и ветра, развевающего волосы, перехватывающего дыхание; в ошибках, в звездах, отраженных в грязных лужах.
Ступени стираются человеческими шагами и все помнят.
Странный, страстный дождь. Холодные капли падают на лицо, будто оставляя ожоги. Такое чувство, будто надо вырваться куда-то, будто голод, душа словно полна до краев какой-то прохладной чудной влагой. Говорят, что нельзя жить без хлеба, воздуха и воды, но разве человек может жить без счастья?
Ожидание встречи, непонятость, лихорадка, жизнь – сладостью, горечью, ожогом на губах, в изменчивости, в измученной вопросами молодости. Я жарко люблю твою боль, и горе, и грязь под ногами. Идешь из читалки, и горячо и ярко блистают в темноте огни университета, а в лужах – звезды.
Звезды – словно грозди, грозди винограда,
налились прохладным соком
и прольются.
В глубине земли перестоявшись,
он поднимется…
Море бьется о теплые скалы.
Жрицы пели в высоких горах, собирали цветы наши девы. Здесь могла зародиться радость. Наша песня о жизни.
– Как у нас весело было! Я помню, как бегала по пригорку в Фестосе. Я еще вернусь в тот дворец. А море у Кносса!.. Дочь моя уезжает на Кефтиу.
– Как, уже? Послушай меня, вы весело живете, я знаю вашу красоту, она такая прихотливая и светлая, – он улыбнулся. – Но вы не ведаете бессмертия, вы слишком легко живете. Только здесь, в Египте, мы знаем… Ты хочешь лишить ее бессмертия? Мы века, тысячу лет думали об этом.
– От того, что вы сохраните мертвое тело, от того, что создадите высокие пирамиды и храмы, вы не найдете цветок бессмертия. В нашем роду не все решают мужчины. Девочка едет на Кефтиу, а я за ней, но позже.
– Когда?
– Не знаю. Что-то меня позовет, быть может, ветер. Я уеду. Ваша песня – о смерти, наша – о жизни. О том, как могла зародиться радость.
На горячие камни летит прохладная пена.
И святая ласка моря.
Волны – словно губы бога.
Как только входишь в воду…
– Вы все купаетесь? Уже пора в Кносс.
Играть у берега опасно, тут много тайн. Вдруг выйдет из вод горячий бык? Дыхание его страстно, а взор безбрежен… и ласков.
– А ты все шутишь.
– Скажи, когда ты уезжаешь в Египет?
– Говорят, там очень жарко.
Прохладная пена летит на горячие скалы.
И дотрагиваются волны, словно губы бога молодого, как только входишь в воду.
Тогда ей казалось, счастлив ты – значит, ты бессмертен, умрешь – рассыплешься песком, исчезнет все. Но счастье… Ты улыбаешься, египтянин.
Она снова вспомнила свою юность, то, что было перед ее отплытием в Египет.
И воды теплые, и словно в небо плывешь. Юный воин в иноземной одежде, но с волосами, сплетенными по критской моде, засмотрелся, как она купается. Одна из девушек намочила букет лилий в пене прибоя и обрызгала его, воткнув ему в волосы лилию. Две другие тоже подошли и, пока он удивленно смотрел на цветок, дружно столкнули его в воду со скользкого камня, на котором он стоял.
– Страсть становится легкой, если ее окунуть в воду.
– Чего вы все смеетесь? Я поймал быка, я прыгаю через него лучше ваших воинов!
Самая веселая из них, та, которую подруги звали Игруньей, насмешливо вторила ему:
– Лучше многих мужчин… Да знаешь ли ты, чужестранец, – может быть, бог ее целовал! Даже жрецы говорят о ней странно! Где уж тебе!
Он вылез из воды и растерянно стоял, пытаясь отжать могучими руками набедренную повязку, украшенную драгоценными бляхами. Его мощная фигура в сочетании с недоуменным выражением лица вызвала новый взрыв смеха у девушек. Игрунья, дразнясь, пыталась одернуть свою широкую юбку такими же неловкими движениями, как воин.
– Ты знаешь, что такое счастье, как оно пахнет, какой у него вкус и где оно?.. Почему ты опять улыбаешься, египтянин? Я не буду тебя целовать, пока не скажешь.
– Рассказывай и пой мне дальше ваши песни. Они так же прекрасны, как твои волосы в прихотливой прическе, и дивные глаза, и вся ты.
– Нет, не все расскажу я тебе, египтянин.
Тогда она подошла к берегу, обойдя камни, но у воды уже стоял иноземный воин.
– Победитель быка… Ты и сам как бык. Только есть ли у тебя, кроме силы, его высокий божественный дух?.. Дай мне пройти.
– Расскажи, как целуют боги.
– Как волны.
И вдруг он схватил ее. Горячие руки и глухие удары сердца. Он поцеловал ее. Она резко вырвалась, оттолкнула его и быстро пошла прочь. Она шла не оглядываясь, думая, что скоро уедет и такого больше не повторится. Но его поцелуй горел на ее обожженных губах.
Игрунья подошла к воину.
– Нам пора, хоть и хороша эта вилла у моря.
– Я найду ее в Кноссе.
Игрунья покачала головой, улыбнувшись:
– Тебе не пробраться к нам во дворец, иноземец. Лучше возьми наш цветок. Но целуешь ты, видно, не так, как боги…
Он шел один по долине меж гор к Кноссу. Больно и страстно стучало сердце, отдаваясь во всем теле. Хотелось глубже вздохнуть, и в то же время будто не хватало воздуха. Все, что случилось с ним за последние дни, слилось в одно безудержное желание. Он еще ощущал ее в своих руках, будто обнимал все то, что так дивило его здесь. Это такое непонятное, далекое и чужое – завораживало.
Он вспомнил, как первый раз еще дома увидел их вазу. Она стояла в мегароне. Заметив, как он разглядывает причудливое переплетение извивов то ли линий, то ли цветов и водорослей, старый воин отца со странным ужасом схватил его за руку.
– Бойся! Твой отец не послушал меня и поставил здесь этот пифос. Он слишком гордится своим богатством и любит заморские дары.
– Чего тут бояться? Она прекрасна, как наваждение.
– То-то и оно. Это опасная тайна. Страшно их колдовство. Вот и ты, юноша, ему поддался. Кое-кто и у нас говорит, что перед ней и меч воина, и золото бессильны. Не для того я тебя учил сражаться, чтобы ты, как многие, что жаждут ее узнать, возжелал ее. Не думай об этом.
И уже тогда он захотел к ним поехать. Теперь он победил быка, а потом…
Мягкие склоны гор поросли деревьями. Он смотрел, как ветви шевелятся, шелестят и чуть поблескивают листвой. Глядя на них, хотелось услышать, как боги шепчут слова любви.
Он вспомнил чудные фрески. Увидев их в первый раз, он подошел и, словно завороженный, слегка дотронулся до прекрасной нарисованной девы, подававшей цветы богине. Он водил пальцами по руке и по нежной груди и вдруг услышал смех Игруньи, рядом с которой стояла она. Но самая жгучая и прекрасная тайна, которая притягивала его, была во дворце, запретном для иноземцев. Там он ее найдет и, прижав к себе, почувствует все это колдовство в своих руках… И какая-то дикая, страстная нежность, от которой хочется кричать, родилась в нем.
«Эвое», – шептали губы.
«Эвое», – кричали руки.
Звонко звезды в небе
отвечали: «Эвое».
«Эвое», – земля прекрасна.
Я пьяна и без вина.
«Так это же их песня!» Неужели ему удастся подглядеть их праздник? Крадучись, прячась за деревьями, он подбежал к роще, где слышались песни и смех, мелькали факелы. Вот редкая удача! В лунном свете девушки в широких юбках плавно двигались, подняв руки к звездам. Он видел их замысловато заплетенные косы, сверкающие камни в волосах, круглые серьги. Иногда проглядывалась белая грудь. Они подбрасывали в воздух цветы и ловили их. Он задохнулся от неутоленной жажды.
Кисти винограда звонко
отвечали: «Эвое».
«Эвое», – земля прекрасна.
«Эвое», – она пьяна.
И цветы, и наши губы —
все сладки и без вина.
Проливают звезды сладость.
И цветы, и пена моря —
отдают святую силу в эту ночь.
– Этот наш танец, как он кружит! Тянешь руки вверх… Я помню это чувство, мне казалось, кто счастлив – тот бессмертен. Может, в счастье люди – как боги?.. Ты опять улыбаешься, египтянин.
Благословенна земля, коль ты так прекрасна.
Голоса удалялись – девушки, наверное, уходили в Кносс. А иноземец, так и не посмев к ним подойти, остался в роще, сел в траву и прислонился к дереву.
И вдруг услышал – что-то еще происходит.
– О, боги! Это они разбудили своим танцем!
Тишина ночи дрогнула. Все кругом наполнилось страстным вздохом – цветы, листья, травы. Звезды набухли живительным соком, пролились в черноту земли. Он кожей ощутил стекающую с листьев таинственную силу. Так можно познать великую тайну обнаженного естества – как боги шепчут слова любви…
Вздох ширился, разрастался в ночи, и в нем он услышал:
Я воздух, которым ты дышишь.
Дыхание мое – ветер, вдохни меня!
Тепло мое – солнце,
ветвями деревьев обниму тебя.
Болью моей стань, кровью моей стань,
песней моей стань.
Жжет меня вечная страсть земли,
не разрубить пополам плоть, что срослась в ночи.
Жжет меня вечная страсть земли,
не разрубить пополам плоть, что срослась в ночи.
Губы мои – твои, тело мое – твое,
счастье мое – с тобой.
Иди ко мне, землей заклинаю черной,
рождающей, вечной!
Водой заклинаю – иди!
Между деревьями он увидел Игрунью. Она шла, дотрагиваясь рукой до яркого ожерелья на груди, а в другой несла большую охапку цветов.
– Что это? Я слышал песню или заклинание?
– Ну, может быть, это пел бог.
– Бог или пастух в горах?.. Скажи, ее любил бог или пастух? Ваши принцессы ведь могут встречаться с кем угодно.
Игрунья лукаво пожала плечами:
– Кто может запретить красавице встречаться с богом или пастухом в такую чудную ночь?
– Где она? Я хочу ее найти.
– Ищи.
Игрунья побежала туда, где громадою чернел дворец, и он тоже медленно пошел к нему. Он даже не видел стражей, им будто и не надо было охранять дворец снаружи, ведь разве кто-нибудь, кроме него, осмеливался на это? Луна то показывалась, то скрывалась за облаками. Причудливый дворец возвышался перед ним так странно: террасы с колоннами, портики, балконы то поднимались, то опускались неровными рядами; плоские крыши громоздились одна над другой, освещаясь лунным светом или вдруг темнея. И не в силах побороть влекущее волнение, воин вступил на лестницу.
Он поднимался по тихим ступеням Дороги Процессий и наконец встал перед дворцом. Он еще колебался. Ему страстно хотелось пробраться в глубь этих покоев, запретных для иноземцев. Он не сомневался в силе своих рук – не побоялся же он когда-то быка, – но тайна…
Он вдруг подумал, что, идя тем путем, которым пускают в тронный зал всех, и иноземцев тоже, не найдет то, что ищет. Сбоку он увидел широкую террасу с колоннами и прыгнул на нее. Каждая колонна расширялась кверху, и только с его ловкостью можно было залезть на крышу террасы.
Рядом располагался балкон с еще одной крышей с каменными рогами, которым здесь так страстно поклонялись. Он пробрался к ним и на мгновение замер. Дотронулся до рогов и испуганно отдернул руку. Они зашевелились и стали горячими. Тогда воин вынул из волос цветок и положил его на рога. Они вновь остыли и стали неподвижны. Даже их священный бык любит цветы… или это почудилось, померещилось?
Глубина дальних комнат властно его манила. Ухватившись за рога рукой, он раскачался, прыгнул и оказался на другой террасе. Сейчас он попадет в самое сокровенное место… И правда, терраса вела в маленькую комнату, а за ней была широкая лестница, откуда доносился странный горячий запах. Он побежал по ступеням. Внезапно лестница кончилась, и перед ним оказался большой зал, в конце которого еще несколько ступеней вели вниз.
Это было их тайное святилище. Такую же комнату он видел в тронном зале. Тогда он заметил, как человек спускался по лестнице вниз, но что там, осталось ему неведомо. Он увидел сосуд чудной красоты, в нем курились какие-то благовония, загадочный запах которых он как раз и почувствовал на лестнице. Иноземцы называли это «бассейном для очищений». На возвышении стоял лабрис. Ему захотелось дотронуться до этого священного топора, но, вспомнив рога, он удержался.
Постоял, не зная, что делать и чего ждут от него боги, и, подумав, что сюда могут прийти жрецы, поднялся по ступеням, прошел по залу, потом по узкому коридору, по маленькой боковой лестнице и очутился в новом месте. Тут спал, безмятежно храпя, слуга. Им совсем не приходило в голову, что кто-то может пробраться в этот дворец-лабиринт. А может быть, они были уверены – оказавшись здесь, чужестранец никогда не выберется обратно («Из нашего лабиринта ты не найдешь выхода», – говорила Игрунья). Однако, что же этот спящий тут охраняет? Коридор довольно длинный…
И вдруг сверху просочился лунный свет. Сквозь дыру в потолке, словно из колодца, он увидел небо. Но он не удивился – они здесь много чего диковинного придумали.
Он вошел в маленькую комнату. «Это же ванная!» На полу еще было мокро, ароматно пахло. В той вилле, где он остановился, тоже была подобная, правда, не столь красивая. Вообще-то как воин он не понимал таких изысков, но сейчас, почувствовав, что взмок от круженья по запутанным переходам, он зачерпнул воду, еще остававшуюся на дне ванны, и умыл лицо, пригладив руками волосы. Ах, надо сказать, чарующий аромат у их дев, на его родине такого не почувствуешь. Какие-то лепестки плавали в воде, он ощутил их запах на своей коже. Однако же не за тайной изысканных ароматов он сюда пробрался. Кругом стояли маленькие вазы и кувшины. В один он засунул палец, поднес к носу, и будто целый луг цветов дыхнул на него.
Он пошел дальше. Впереди увидел огонек… Вдруг это она зажгла? Но даже если и она – для него ли? Может, она любит бога? Он остановился. То оказался светильник, освещавший фреску – грациозная богиня среди цветов и зверей чем-то неуловимо была похожа на нее. Может быть, странными чудными глазами. Или этим легким жестом. Девы в его стране не умеют так подавать ожерелье. У них бы это получилось либо слишком величественно, либо неловко. Неужели Игрунья права и ее в горах обнимал бог? И он, еще юный воин, ощутил в груди огромную силу. Он пылал возмущением, был готов пробить стены, чтобы овладеть той, что так беспечно уезжала в Египет. Жгучее раздражение от этой певучей красоты охватило его, пока он смотрел на богиню в цветах. Найти, схватить, подчинить эту неуловимую беспечность, этот смех!
Он бросился бежать со всей своей, как говорила Игрунья, иноземной силы по темному коридору, с размаху ударился о каменный выступ, вновь побежал, петляя по переходам, в своем юном нетерпении натыкаясь на стены, и ему все казалось, что он видит, как впереди что-то светится. Дворец таил неведомое. Вот лестница, она шла вниз, вниз, а там…
На возвышении стояли темные священные статуэтки. Жены или девы держали змей, те обвивали их руки. Эти маленькие богини показались ему зловещими, будто что-то пророчили, может быть, великое или страшное. Он не жрец, ему не понять, что они хотят сказать, и их черные тайны не нужны ему сейчас. Жаркая кровь стучала в его юном сердце, он снова ощутил, как прижимает к себе ее грудь под тонкой мокрой рубашкой. Когда он ее целовал… что за трепет был в ее губах? Вот что он хотел сейчас узнать у темной богини! Это было ему важнее тайны земных недр, что выпытывают здесь жрецы. Ему нужна она, лишь она!
И он снова поспешил по извилистому коридору. Комнаты, лестницы, переходы попадались ему на пути. Неужели она не чувствует его желания? Может, все же она разожгла огонь, что вновь так странно мерцает вдали? Дворец таил неведомое.
Внезапно он ощутил, что потерял путь, запутался. Будет позор, если утром они его найдут и так презрительно посмотрят на него, которому недавно рукоплескали после игр с быком и который не захотел мириться с тем, что не отдали ему добровольно, а ночью пробрался, как вор, чтобы добиться этого силой. И дворец не отдал ему своих тайн, заморочил. Он представил себе лица жрецов и ее недоуменный взгляд. Это хуже казни, хуже, чем смотреть в глаза дикому быку. И все же он не чувствовал себя виноватым, ибо страсть, казалось, давала ему право добиваться этой красоты так, как он хочет. Но утренний позор будет страшнее быка-прародителя, который, говорят, бродит здесь по ночам. Лучше встретиться с ним, чем дать себя заморочить этому дворцу.
Он отбросил ставший ненужным меч, сел на холодный пол, обхватил голову руками и почувствовал дрожь. Тогда вдруг он вспомнил беспечную богиню на фреске и ее беспечно-щедрую, не ведающую терзаний улыбку. Он взмолился: «Помоги мне, ты, которую воспевают в цветах и травах у моря! Я могу сражаться голыми руками с быком, мечом – против воина, а какое есть оружие против тебя? Ты заколдовала этот дворец. Может, нужны те топорики, которым поклоняются в лабиринтах? Чем мне сражаться?!» И тут, желая поднять отброшенный меч, он нащупал что-то мягкое на скользком полу и в пробившемся сверху лунном свете увидел, что это… лилия. Чуть дальше впереди лежали другие лепестки. Схватив цветок, он побежал по этому зыбкому следу. Он вспомнил, как часто гадали их девы, обрывая лепестки у цветов.
В слабом свете он разглядел развилку коридора, на миг засомневался, куда идти, но лепесток лежал по правую руку. И он поблагодарил беспечную богиню. Пройдя несколько шагов, он вдруг снова увидел ее изображение, у которого уже был раньше. Она, казалось, смеясь, шептала: «Вот оно, мое оружие. Держи его. Оно легче, чем твой меч, но, право, его запах лучше, а вид приятнее».
Он осмотрелся, все еще не веря, что избежит позора и найдет выход, и тут заметил Игрунью, обрывающую последние лепестки у цветов. Еще один букет лежал около богини.
– Что с тобой? Где ты нашел мою лилию? Ты очень рискуешь. В самом деле, если вдруг тебя обнаружат здесь… – Она подошла ближе и, посмотрев ему в лицо, расхохоталась: – Видел бы ты себя, великий воин! Зубы скрежещут, глаза горят, лицо красно…
Он отвернулся, а она вдруг с жалостью взяла его за руку.
– Ты так ничего не поймешь и не узнаешь счастья. Посмотри, какое ожерелье подарил мне друг. Он не бегал за мной по закоулкам дворца, я сама подала ему руку.
Ожерелье и вправду ярко блестело на ее шее. Но еще ярче казались ее веселые губы и счастливые глаза.
– Послушай, Игрунья, мне кажется, ты можешь быть добра и понять чужеземца. За что все это со мной происходит? За что мне такое унижение? Ее вправду любит бог?
– Пойдем, я выведу тебя отсюда… Мы все добры. Ты когда-нибудь поймешь. Ты нашел путь к богине по случайным цветам. Эта ночь к тебе благосклонна. Ты скоро почувствуешь это. Что нас ждет, кто знает? Ты уедешь, она уедет. Но вокруг Кносса цветут цветы. И меня ждет мой друг. Пойдем скорее, любитель лилий.
И когда выбрался на террасу, с наслаждением вдохнул воздух, напоенный цветами, вдруг, несмотря на все, он почувствовал радость.
По вечерам стоял темный густой воздух, раздавался звон цикад.
Сегодня за обедом Таня, очаровательная молодая девушка (ей пятнадцать лет, она радует всех в нашем отеле у моря), сказала:
– Что это меня глюки мучают? Мне кажется, что все это уже было, мы так же сидели, о том же говорили…
– Такое бывает, это что-то типа реинкарнации, когда вспоминаешь прошлое, – заметила светловолосая дама, моя соседка, пробуя терпкое местное вино.
– А я вот думаю, что ей видится то, что будет.
– Пророчица?
– Не совсем.
– Александр Владимирович, а здесь были свои вещуньи?
– Наверное. Мы мало чего знаем. Минойская цивилизация существовала тут еще раньше, чем Кассандра и пифии в Дельфах.
– Это про Кассандру рассказывается в мифах, что она после взятия Трои жила с воином?
– Да, она стала наложницей царя Агамемнона. Их потом обоих убила жена Агамемнона, Клитемнестра.
– Я бы не хотела такого конца, как у нее, я бы убежала.
– Я чувствую, что наша пифия уже совсем перегрелась на солнце, – заметила Танина мама.
– Александр Владимирович, у вас тоже плечи покраснели. Пойдете завтра с нами на пляж? Или вы опять на раскопки?
– Смотрите, дождь пошел.
– Говорят, здесь это редкость.
– Вы куда, Александр Владимирович?
– Пойду погуляю, посмотрю на дождь. Он и правда здесь редко бывает.
Дорожку, ведущую от отеля к морю, окружали кусты и цветы. Наверное, меня тоже начали здесь мучить эти самые глюки. Я смотрел, как на хрупких ветках сверкают капли, как драгоценные камни в волосах самой тонкой и большеглазой девушки. И мне вспомнилась юношеская мечта. Когда же я это представлял себе, в школе, в университете? Я смотрел на мокрые листья и чувствовал: у нее должны быть таинственные, глубокие, мерцающие, как эти капли, глаза. И хотелось задать детский вопрос: «Как имя твое?»
В таком расслабленном состоянии я вышел к морю. Дождь внезапно прекратился. Море у ног осторожно, мягко дотрагивалось до берега, как женские руки. Я сел на лежак у самого прибоя. Он шумел, разлеталась пена. Что-то странное пришло на ум: «Ты, море теплое и доброе. Ты, начало цивилизации. Ты, создавшее красоту. Дай нам…»
И пришло чувство нежности. Оно было пугающе тихим. И снова приобрело свой смысл все в мире. Боль, ложь, начальники, деньги, мой давний безрадостный брак, одиночество, дальняя поздняя любовь, редкость встреч с ней и с моей внучкой. И я впустил в себя это море, цикад, серебристую пену на волнах, ступени разрушенных дворцов, вечернюю музыку. Они захлестнули весь осадок непонимания. В душе шаг за шагом стало восстанавливаться разрушенное единство. Гармония мира возвращалась трепетно-живой, юной. Я вдруг ощутил, что мир ко мне добр, величественно добр, как это море. Более того, он великодушен и щедр. Это истинно, и все истинно. И все ошибки, горе и обиды, как старые листья на стебле, были такими до боли человеческими ошибками. А значит, и в них есть истина. Потерянная в шуршании машин, криках и сплетнях гармония оказалась истинной и существующей.
Обрести и услышать.
И я иду.
Иди и слушай —
обрести и найти.
Слышишь?
– Александр Владимирович, а знаете, какое вино мы сегодня с вами пили перед дождем? Нам наш официант рассказал.
Мои новые знакомые приносили мне такую же беспечную радость, как моя маленькая внучка. Особенно пятнадцатилетняя Таня, севшая со мной рядом на лежак.
– Говорят, оно из Архан. Это самое знаменитое у них здесь красное вино. Туда даже есть экскурсия с дегустацией. Вы чувствуете, как действует?
– Кажется, да. А вы знаете, Танечка, я завтра собираюсь как раз в Арханы, только без экскурсии. А продегустировали мы и здесь отлично.
– С кайфом.
– Вот именно. Там есть святилище на горе Гюхта и древнейшие могильники – толосы. Они такие круглые, таинственные. Не хотите со мной?
– Ой, я лучше пойду на пляж. А вечером вы все расскажете, хорошо? И купите нам еще арханского!
На следующий день с утра на небе еще были облака, но пока я добрался до Архан, снова стало жарко. Проезжая мимо Кносса, я решил на обратном пути заглянуть во дворец. Почему-то в Арханах все близлежащие магазинчики были закрыты, и я с трудом купил заказанное мне знаменитое местное вино. В результате поездка получилась достаточно бестолковой. Я не успел в музей, а чтобы поехать в святилище, надо было специально договориться с кем-нибудь из его сотрудников и попросить открыть решетку, окружающую раскопки.
Я решил вначале пойти к гробницам. Их священная гора Гюхта слева от дороги казалась мягкой при ярком солнечном свете. Служитель у входа показал мне книгу о святилище, и я мельком увидел иллюстрацию – очевидно, реконструкцию какого-то известного события, может быть, землетрясения 1450 года до н. э. На рисунке разрушается храм, испуганный человек падает на землю. Но книга не продавалась, а расспрашивать было некогда, я спешил.
Не задерживаясь, я поднялся на холм и начал бродить между могильниками. Один полностью уцелел. Я спустился в черное пятитысячелетнее помещение. После яркого солнца здесь было темно и прохладно. Держась за чуть влажные стены, я на ощупь добрался еще до одной дыры, вошел в совсем темную погребальную камеру и дотронулся до ее влажных холодных камней. Странное непонятное ощущение возникло у меня, похожее на предчувствие. Был это страх, что я делаю что-то кощунственное, или иной трепет?..
Сколько же еще ждать?
И сотню лет,
и тысячу лет,
и еще тысячу…
Когда ты услышишь?
Я стоял, держась рукой за холодный камень, и в душе было что-то тихое и напряженное, как струна. Только одно я шептал: «Как имя твое? Я хочу почувствовать твое имя…»
Выйдя на ослепительно-яркое солнце, я понял, что уже не успеваю в святилище. Но все же я заехал в Кносс и еще раз рассмотрел на фреске этот тонкий профиль с расширенными безбрежными глазами и той самой улыбкой.
И когда я купался вечером в море, он мне все вспоминался.
Я стою пред началом времен.
После гибели мира.
Страшный суд совершили боги. Прекрасный остров погрузился в море, нахлынули волны, сотряслась земля, разрушилось все, дивные дворцы и храмы. Появились чужеземные воины, оскверняя кровью руины.
Люди. Они слышали песню бездны.
И кровь проступила на солнце,
и медленно едкою тьмою покрылся
извечный свет.
Зло и разрушенье охватили мир. Зло – от людских сердец, разрушенье – это плачут боги. Горы колебались. Дрожала земля. Конец.
Это нельзя пережить.
Это нельзя понять.
Она часто приходила к древней гробнице и, прижав руки к камням, подолгу стояла. Душа ее каменела.
Как пережить то, что увидела она, вернувшись из Египта?.. Люди рассказывали и о новых страшных слухах, будто и Египет скоро ждет гибель, а те, кто успел уплыть с острова Фера, вряд ли спаслись. Феру все любили, там жили веселые искусные мастера. Зловещим было зрелище, когда он погрузился в волны.


