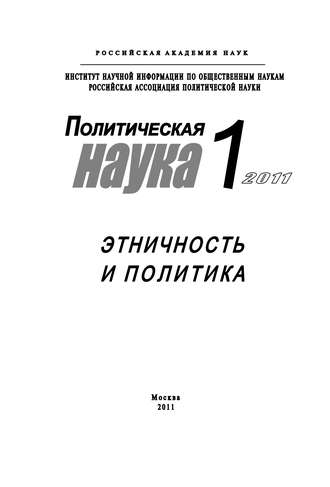
Ольга Малинова
Политическая наука №1/2011 г. Этничность и политика
«Этнополитика» как официально декларированный курс предполагает определенную мотивацию, соображения и виды. Стержневым началом в деятельности властных инстанций здесь, как и везде, выступает стремление к легитимации, что может получать какое угодно доктринальное обрамление. Репертуар официально-идеологических формул в отечественных условиях эволюционировал во времени от «дружбы народов», «расцвета и сближения» в былые времена до «межэтнической стабильности» или «толерантности» в наши дни.
Структуры интенциональности в «этнополитике» как сфере скорее не иерархичны по критериям политико-административных компетенций, но стихийно переплетены во всем пространстве многообразных практик.
Индивидуальные акторы здесь выступают в роли соискателей самых разных вещей, когда ставкой является тот или иной бенефиций – признание и уважение, самореализация, неформальный статус или престиж в глазах соратников, карьерные преференции, академические звания и должности, эфирное время и тиражи, гранты и лекционные туры, узнаваемость и прочая символьная ликвидность, идейно-моральная капитализация.
Разнообразные программы, доктрины, платформы, любые интенциональные декларации этнополитических движений и способы их идеологического обоснования в качестве семантического ядра содержат требования, варьирующиеся в пространных пределах. Спектр практикуемых стратегий имеет протяженность от умеренных принципов «культурного возрождения», «аккомодации», «автономизма» до радикальных версий «сепаратизма» и «ирреденты», включая пандвижения и панидеологии.
В названном контексте часто возникает нужда в семантических нюансировках, чему легко подыскать показательные примеры. Комментируя пресловутый «парад суверенитетов», Г.В. Старовойтова писала: «В течении 1990 и 1991 гг. все российские автономные республики в одностороннем порядке стали объявлять себя “суверенными государствами”… Парадоксальным является то, что идея суверенитета в российском политическом словаре того времени не подразумевала независимость или возможность отделения от России. Она просто предполагала больше свободы для территорий распоряжаться своими естественными ресурсами по своему усмотрению, заниматься международной торговлей и вести переговоры о величине налога, который им следует платить федеральному правительству» [Старовойтова, 1999].
Этнополитическая активность в семантическом плане предполагает, как отмечалось выше, категориальное значение «субъект – объект». В виде объекта в данном случае могут фигурировать разные вещи. Официальная «этнополитика» или «этнонациональная политика» [см.: Соколовский, 2008, с. 187; Тощенко, 2003, с. 136–142] или соответствующий курс в качестве такового – эксплицитно или имплицитно – предполагают что-то одно. Это, вообще говоря, состояние «этносферы», «межэтнических / межнациональных» отношений. Смысловая грань сферы тяготеет к акцентированию чего-то другого. Приоритетные задачи в этом варианте, как можно предположить, состоят не только в воздействии, направленном на желаемое положение дел с этничностью, но также и на поведение других. Так, национализм фактически преследует цели воздействия на взаимоотношения между сообществами, но не только. Не менее существенные намерения состоят в том, чтобы ранжировать статусы и роли внутри сообщества – целевого объекта сплочения или каким-то образом дисциплинировать «своих».
По-своему рационализированная формула была в свое время предложена применительно к языковой политике (теснейшим образом, кстати сказать, примыкающей к «этнополитике») Р. Купером. «Какие акторы пытаются влиять, на какое поведение, и каких людей, в каких целях, при каких условиях, какими средствами, через какие процессыпринятия решений, и с каким эффектом» [цит. по: Hornberg, 2006, p. 24].
Таким образом, «этнополитика», понимаемая как policy (policies), имплицитно тяготеет к интенциям воздействия на определенную систему, на институты, статусные атрибуты, на легитимной контроль. В качестве предположения, нуждающегося в специальной верификации, можно было бы отметить, что данный смысловой сегмент выглядит как область действительных залогов. Есть субъект (актор, агент, носитель активности…), предпринимающий целенаправленные шаги, проводит политику или «политизирует» какой-то объект (в данном случае – этничность).
Нередко, правда, то, что представляется «политикой», на деле является слабо упорядоченной, стратегически недостаточно фундированной совокупностью действий ad hoc реагирования в ситуативных обстоятельствах.
Понимаемая же в качестве politics «этнополитика» – это область не поддающихся программированию явлений, факторов (по-разному существенных), атрибутов, зачастую непреднамеренных эффектов, выступающих в комбинации с причинами и следствиями, условно говоря, экстраэтнического порядка. Иными словами, этнополитическое феноменологически, как правило, представлено в сложном соединении с иными по своей природе обстоятельствами – экономическими, ресурсными, территориальными, социальными, религиозными, правовыми, внешними и внутренними геополитическими etc. Продолжая выдвинутое выше предположение, укажем: эта смысловая перспектива по преимуществу – область сострадательных залогов. Что-то (этничность) испытывает на себе действие – выступает в роли объекта политики или объекта политизации.
В силу сказанного в подобных случаях корректнее всего оперировать термином «этнополитическое».
Семантическая валентность «этнополитики»
Существенный индикатор концепт-анализа – способность слов выступать в сочетании с другими словами. Речь в нашем контексте, конечно, не идет о строгих синтаксических материях. Однако вполне уместно посмотреть, с какими терминами, активно или пассивно, обязательно или факультативно, взаимодействует «этнополитика». На проблему можно взглянуть в логико-интуитивных ракурсах либо с позиций эмпирической частотности.
Интуиция подсказывает, что наиболее заметные и постоянные партнеры этнополитического по семантическому взаимодействию – это «кризис» и «мобилизация».
Анализ состояния такой вполне обособленной субдисциплинарной подсистемы, как этнополитическая конфликтология, – самостоятельная тема. Эта аналитическая область знает своих «классиков» [см.: Малахов, 2005, с. 241–259]. Знает она и активных разработчиков в российском исследовательском сообществе, со стороны которых предложены подробные типологически идентифицирующие процедуры [см.: Ачкасов, 2007, с. 769–770]. Для нашего случая свой интерес состоит в том, чтобы отметить характерные подходы, стремящиеся разрушить негативный ассоциативный контекст. Последний образуется, во-первых, за счет имплицитного обвинительного уклона в оценке действий «этнических акторов» и, во-вторых, в преобладании двухвалентных проекций «этнополитика – конфликт». И в зарубежной, и в отечественной литературе постепенно зазвучали призывы к отказу от традиционно сложившейся односторонности.
Применительно к постсоветским «кейсам» Андреас Каппелер писал: «Радикальные демократы, упорно придерживающиеся принципа большинства и игнорирующие в своей концепции демократии защиту меньшинств, способствуют конфликтам точно так же, как и бескомпромиссные приверженцы этнонационального принципа» [Каппелер, 2010, с. 22].
Другой существенный момент состоит в отказе от семантического образа «этнополитики» как болезни, что было концептуально заявлено в середине 1990-х [см.: Оффе, 1996, с. 86]. Альтернативное видение предлагается строить не в двух-, а в трехвалентной версии: «этнополитика» как конфликт и как сотрудничество [см., например: Cornell, Wolff, 1994, p. 5–16]. Чуть раньше в российской литературе был выдвинут тезис о том, что наряду с «деформированными видами этнополитики» следует выделять и «позитивную этнополитику». Это включало и рекомендации в плане умения «использовать интересы местных этнических групп как приводные ремни политики центра» и, напротив, отказаться от «привычки видеть в меньшинствах своего рода козлов отпущения», «распределять через этнические группы средства, выделяемые для этих групп» [Тощенко, 2003 с. 143–156].
В целом можно констатировать, что понимание «этнополитики» в конфликтной или конфликт / консенсусной перспективах – с соответствующей семантической окраской терминологического аппарата – есть вопрос идейно-политического выбора.
Валентная пара «этнополитика – мобилизация» имеет более сложную теоретическую биографию.
В российских изданиях по этнополитической проблематике понятие «этническая (этнополитическая) мобилизация» на ранних этапах пребывало в несколько маргинальном положении. Говоря о мобилизации данного типа, авторы подразумевали и во многом продолжают понимать нечто манипулятивное, искусственно привнесенное в сферу политического и этнического. Акцент здесь приходится на такое ключевое слово, как «средство». Например, А. Юсуповский писал об этом как об «артефакте», «ситуативной политической функции», не свойственной этничности [Юсуповский, с. 106].
В работах, публиковавшихся по этнополитической проблематике на Западе, понятие «мобилизация» изначально служило как базисное. Уже в период, когда внедрение категории «этничность» в политологический обиход еще нуждалось в особом обосновании, аргументация часто увязывалась с функциями мобилизации. Известное введение к коллективной монографии «Этничность. Теория и опыт» (1975), написанное пионерами дисциплины Н. Глейзером и Д. Мойнихеном, неоднократно апеллирует к мобилизующему потенциалу феномена этничности. Религиозные, языковые, культурные различия и характеристики, даже находясь в стадии ослабления или стирания, даже становясь все более «символичными», как пишут эти авторы, «могут служить основой для мобилизации. Таким образом, имеется некая легитимность для того, чтобы считать эти формы идентификации, основанные на таких разных реальностях, как религия, язык, национальное происхождение, в чем-то едиными настолько, что для соответствия всему этому изобретается новый термин “этничность”. Что у них у всех общего – так это то, что они становятся эффективным средоточием для групповой мобилизации во имя конкретных политических целей, бросая вызов мобилизационной первичности класса, с одной стороны, и наций – с другой… Как политическая идея, как мобилизационный принцип, этничность в наши дни распространилась по всему миру» [Glazer, Moynihan, 1975, p. 18–19]. Следовательно, с самого начала этничность феноменологически трактовалась в связке с мобилизующим потенциалом, с такими функциями по организации групповой или коллективной идентичности, которые играют системообразующую роль.
Проблема «мобилизованной этничности» становится предметом теоретико-методологической рефлексии. Концептуализируя различия между «этническими категориями» и «этническими группами» как двумя типами коллективности, Р. Джексон отталкивается от критерия мобилизованности, организационной консолидации на основе интереса. Категории, по Мертону, могут быть мобилизованы в группы. В этнонациональном контексте, согласно Карлу Дойчу, процесс nation-building предполагает прежде всего «социальную мобилизацию» – процесс, посредством которого локальные идентичности абсорбируются более крупными, национальными по характеру. Этническая мобилизация в отличие от константной дремлющей этнической «данности» – расы или языка – требует особого пояснения, продолжает автор. Главное – это обстоятельства, порождающие мобилизованное состояние этничности. Указывают три переменные: 1) национальное самоопределение, 2) социально-экономическая модернизация, 3) политическая демократия. Именно мобилизация, возможно, в большей мере, чем другие атрибуты этнического, превращает его в предмет не только этнологии, но и всех социальных наук [Jackson, 1984, p. 208–218].
По-особому акцентированно сюжеты этнической мобилизации были представлены в этапной монографии Милтона Эсмана «Этническая политика» (1994). Для понимания динамики этнической политики главенствующими служат два концепта – «этническая мобилизация» и «конфликтный менеджмент». Предложенная М. Эсманом интерпретация одной из двух основополагающих категорий этнополитического дискурса исходит из того, что «мобилизация – это процесс, посредством которого этническая общность становится политизированной во имя ее коллективных интересов и стремлений». Толчком к этому могут служить различные импульсы: формирование «референтного» сегмента – образа «другого», с которым сравнивается положение этнической группы. Далее, мобилизация может носить либо наступательный, либо оборонительный характер. Как правило, состояние мобилизованности наступает в результате сочетания нескольких побудительных стимулов. Мобилизация этнополитического типа происходит под воздействием сложных мотивирующих структур. Это и сильное чувство ущемленности, и страх за утрату ценностей, и угроза интересам. Но необходимы также, особо подчеркивает М. Эсман, и «позитивные побудители»: ожидания большего достоинства или материальных выигрышей. Сами по себе чувства солидарности или моральный долг – отнюдь не всегда достаточны для эффективной мобилизации [см.: Esman, 1994, p. 24–29].
В целом «этнополитическая мобилизация» может рассматриваться или как синоним «национализма», или как рядоположенное понятие со своими специфическими признаками – необходимыми, но не всегда достаточными для национализма.
Таким образом, этнополитическое вновь предстает скорее не в виде субстанции, но функции. Искать обособленные подсистемы «этнополитики» в практике властных инстанций или неправящих сил – занятие как минимум не бесспорное. Семантика этнополитического обладает более перспективной эвристикой по сравнению с дискурсами моноцентричной «этнополитики».
Список литературы
Ачкасов В.А. Этнополитология // Политология: Лексикон / Под ред. А.И. Соловьева. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007. – 800 с.
Драгунский Д.В. Этнополитические процессы на постсоветском пространстве и реконструкция Северной Евразии // Политические исследования. – М., 1995. – № 3. – С. 40–48.
Дробижева Л.М. Этничность в современной России: этнополитика и социальные практики // Россия: трансформирующееся общество / Под ред. В.А. Ядова. – М.: КАНОН-пресс-Ц, 2001. – С. 199–221.
Каппелер А. Субнационализм наций без государства // Национализм в поздне– и посткоммунистической Европе: В 3 т. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – Т. 3: Национализм в национально-территориальных образованиях. – 423 с.
Кошкаров Н.В. Дискурс национализма: (Bibliography review) // Credonew. – 2006. – № 4. – Режим доступа: http://credonew.ru/content/view/588/58/
Майборода А.Н. Теория этнополитики в западном обществоведении: структура и принципы исследования. – Киев: Наукова думка, 1993. – 228 с.
Малахов В.С. Национализм как политическая идеология. – М.: КДУ, 2005. – 320 с.
Малахов В.С. Национализм и «национальная политика» российской власти, 1991–2006 // Русский национализм: Социальный и культурный контекст. – М.: Новое литературное обозрение, 2008. – С. 131–156.
Малинова О.Ю. Конструирование идентичности: возможности и ограничения // Pro et contra. – М., 2007. – № 3, май–июнь. – С. 60–65.
Марченко Г.И. Этнополитология как наука // Вестник Московского университета. Серия 12. Социально-политические исследования. – М., 1994. – № 3. – С. 62–79.
Моррис Ч.У. Основания теории знаков // Семиотика: Антология. – М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2001. – С. 45–97.
Мухарямов Н.М. Вопросы теории этнополитического анализа. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1996. – 188 с.
Оффе К. Этнополитика в восточноевропейском переходном процессе // Политические исследования. – М., 1996. – № 3. – С. 86–93.
Паин Э.А. Этнополитический маятник. Динамика и механизмы этнополитических процессов в постсоветской России. – М.: Институт социологии РАН, 2004. – 328 с.
Платонов Ю.П. Этнический фактор. Геополитика и психология. – СПб.: Речь, 2002. – 520 с.
Соколовский С. Эссенциализм в российском конституционном праве (на примере терминологии, используемой в конституциях республик в составе РФ) // Русский национализм: Социальный и культурный контекст. – М.: Новое литературное обозрение, 2008. – С. 184–234.
Соловей В.Д. Кровь и почва русской истории. – М.: Русский миръ, 2008. – 480 с.
Старовойтова Г.В. Национальное самоопределение: подходы и изучение случаев. – СПб., 1999. – Режим доступа: http:// www.vehu.net/politika/starovit/index.html
Степанов Ю.С. Семантика // Лингвистический энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – С. 438–440.
Тишков В. Что есть Россия и российский народ // Pro et сontra. – М., 2007 – № 3, май–июнь. – С. 21–41.
Тишков В.А. Реквием по этносу: Исследования по социально-культурной антропологии. – М.: Наука, 2003. – 544 с.
Тишков В. Постнационалистическое понимание национализма? // Национализм в поздне– и посткоммунистической Европе: В 3 т. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – Т. 1: Неудавшийся национализм многонациональных и частичных национальных государств. – С. 169–227.
Тощенко Ж.Т. Этнократия: История и современность. Социологические очерки. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2003. – 432 с.
Хрусталев М.А. Методология прикладного политического анализа. – М.: Проспект, 2010. – 160 с.
Юсуповский А. От национального кризиса к национальному соразвитию: в поисках адекватной модели // Общественные науки и современность. – М., 1994. – № 5. – С. 102–112.
Ян Э. Государственная трансформация на востоке Европы. «Второе национальное возрождение» или национализм, национальные движения и образование государств в поздне– и посткоммунистической Европе с 1985 года // Национализм в позднее– и посткоммунистической Европе: В 3 т. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – Т. 1: Неудавшийся национализм многонациональных и частичных национальных государств. – С. 169–227.
Connor W. Ethnonationalism. The quest for understanding. – Princeton: Princeton univ. press, 1994. – 234 p.
Cornell K., Wolff S. Ethnopolitics in contemporary Europe // The ethnopolitical encyclopaedia of Europe. – Houndmills; Hampshire: Palgrave, 2004. – 744 p.
Esman M. Ethnic Politics. – Ithaca: Cornell univ.press, 1994. – 277 p.
Hornberg N.H. Frameworks and models in language policy and planning // An introduction to language policy: Theory and method / T. Recento (ed.) – Oxford: Blackwell publishing, 2006. – P. 25–41.
Jackson R.N. Ethnicity // Social science concepts. A systematic analysis. – L.: Sage, 1984. – P. 206 – 234.
Glazer N., Moynihan D.P. Introduction // Ethnicity. Theory and experience / N. Glazer, D.P. Moynihan (eds.). – Cambridge: Harvard univ. press, 1975. – 531 p.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ НАУКА ПЕРЕД ВЫЗОВОМ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ПЛЮРАЛИЗМА
А.М. КУЗНЕЦОВ
Реформируемая Россия восприняла целый ряд новых идей, представлений и ценностей, связанных с феноменом этнического плюрализма: этничность, мультикультурализм, этническая идентичность, толерантность и др. Однако, заимствуя определенные научные и общественно-политические взгляды, мы не всегда представляем причины их возникновения и обстоятельства востребованности. Между тем даже среди зарубежных специалистов возникают сомнения по поводу подобных ситуаций заимствования. Например: «…если наши теории об этничности и нации формируются, как это часто происходит, в метрополиях, таких как Великобритания и Соединенные Штаты, могут ли они быть адекватными для понимания процесса формирования идентичности и соперничества в таких колониях, как Канада, Австралия и Новая Зеландия?» [Mackey, 1999, р. 11]. Вполне очевидно, поставленный вопрос становится вдвойне актуальным для российской науки. Поэтому нам очень важно понять те исторические и социально-политические контексты, в которых происходит развитие конкретных исследовательских традиций. В этом смысле я солидарен с позицией, представленной Дж. Маклюр: «Не существует герметических границ между репрезентацией и реальностью, и на самом деле репрезентация является неотъемлемой частью реальности» [Maclure, 2003, р. 10]. Сегодня нам остро необходим специальный анализ основных условий и парадигматических оснований формирования разных традиций фиксации и интерпретации проблемы «этнокультурного разнообразия» в получивших поистине глобальное распространение американском и канадском вариантах политической теории.
Следует учитывать, что обсуждению проблемы этнокультурного многообразия долгое время не уделялось особого внимания. До недавнего времени все были уверены в скорой ассимиляции сохраняющегося культурного плюрализма несколькими доминирующими культурами. Однако во второй половине ХХ в. стало уже очевидно, что «…культурные различия в обществе, организованном в форме государства, не только не исчезают или сглаживаются, но, напротив, проявляют явные тенденции к нарастанию» (здесь и далее курсив мой. – А.К.) [Тернборн, 2001, с. 51]. Плюралистические идеи оказались востребованы в США после развертывания борьбы афроамериканцев за гражданские права и молодежных движений конца 1960-х годов, явившихся кульминацией формирования молодежной субкультуры. Затем после официального признания Канадой в 1971 г. политики мультикультурализма и американский культурный плюрализм был переименован для приведения в соответствие с этим ставшим популярным новшеством [Hollinger, 2005, р. 98].
В силу своей замечательной неопределенности концепт «культура» хорошо подходил для описания самых разных обстоятельств и субъектов. Как показал канадский политический философ Ч. Тейлор, теперь даже «демократия стала выражать себя в политике равного признания», принимающей в разное время разные формы, в последнее же время она представлена как требование равного статуса для разных культур и гендеров [Taylor, 1992, р. 27]. При этом реальные различия условий разных стран дали толчок к поиску разных идей и подходов в разработке культурной проблематики. Например, в американском контексте признание значимости этнокультурной тематики стало основой для широкого распространения идеи идентичности. Как отметил Г. Тернборн, «политика идентичности (или политика различия, как ее называют)… была следствием борьбы за институциональное равенство, когда то, что отличается, утверждается как равно достойное» [Тернборн, 2001, с. 52]. Р. Брубейкер и Ф. Купер подтверждают: «Пафос и резонанс идентичностных претензий в современных Соединенных Штатах имеют много истоков. Одна из основных причин данного состояния заключается в центральной проблеме американской истории – ввозе порабощенных африканцев, укорененной расовой дискриминации и ответной реакции со стороны афроамериканцев… Данный опыт значим не только в контексте расовой проблематики, но с конца 1960-х годов он используется как шаблон для утверждения идентичностей всех видов, включая основанные на половой принадлежности… сексуальной ориентации, этничности и расе» [Брубейкер, Купер, 2002, с. 105]. Другой автор констатировал: «Фактически в Соединенных Штатах термин “мультикультурализм” часто применяется в отношении всех видов политики идентичностей» [Kymlicka, 2004, р. 9]. А Д. Холлинджер также заметил: «Самым предпочтительным словом в дискурсе мультикультурализма теперь является идентичность» [Hollinger, 2005, р. 6]. В других социально-политических контекстах, в том же канадском, большую значимость получила собственно политика мультикультурализма, направленная на скорейшее включение мигрантов и некоторых других отличных общностей в принимающее сообщество. Альянс американской идеи идентичности с канадским мультикультурализмом повысил уровень неопределенности в их базовых формулировках. Не случайно вскоре обнаружилось, что попытки закрыть все возникавшие проблемы в рамках принятых концептов стали причиной издержек, которые, в частности, дали основание С. Хантингтону утверждать: «Культы мультикультурализма и многообразия заняли место культов левизны, социалистической и пролетарской идеологий» [Хантингтон, 2004, с. 225–226]. Одну из причин произошедших перемен показал, в частности, историк Р. Дей, который объяснял эти новые тенденции вызовом постмодернизма, заставившим отказаться от прежних универсалистских представлений и обратить внимание на реальность многообразия в обществе и культуре [Day, 2000].
От проблематики культуры к признанию этничности
Коллизии с попыткой придания культуре роли всеобщего ключа к решению различных проблем, а также участившиеся проявления «этнического возрождения» повлекли за собой необходимость признания в исследовательском поле еще одного концепта – этничность. Взаимосвязь этих базовых концептов получила выражение в новом определении – этнокультурноепроисхождение. Сама идея этничности получила признание у зарубежных исследователей только с конца 1960-х годов ХХ в. [Barth, 1969]. Но все более распространявшееся влияние концепта идентичности часто приводило к тому, что и сам процесс «этнического возрождения» стал рассматриваться как часть более широкого движения, получившего название «политика идентичности» [Kymlicka, 2004, р. 9]. Одну из причин подобного отношения к явлению этнического многообразия объяснила Ф. Беккер: «Вплоть до середины 1970-х годов еще существовал широкий консенсус по вопросу о том, что этнические различия будут стираться в процессе модернизации. Поэтому этничность рассматривалась только как третьестепенный фактор, и, по общему тогдашнему убеждению, этнические различия можно было списать в подстрочник истории» [Беккер, 2001, с. 68]. Но почему-то это сугубо «временное и незначимое обстоятельство» все более и более настойчиво заявляло о себе. Поэтому науке, в том числе ее политической отрасли, пришлось по-новому взглянуть на него.
Сразу приходится констатировать, что исходная разнородность социально-политических контекстов стран и регионов определила различия и в трактовках этнического феномена. Так, одно из влиятельных за рубежом направлений рассматривало заявившее о себе «этническое возрождение» как эпифеноменальное явление, обусловленное желанием достижения материального успеха, безопасности или власти. Другое – объясняло рост этнополитической активности конфликтными мотивами, изначально свойственными данному феномену. Представления подобного рода получили воплощение, в частности, в классических работах Дж. Ротшильда [Rothschild, 1981] и Д. Горовица [Horowitz, 1985]. Перечень различных трактовок зарубежными авторами концепта этничности можно было бы существенно продолжить. В результате же мы лишь получим широчайший спектр взаимоисключающих мнений, на одном полюсе которого окажутся народы или нации, а на другом – лишь коренное население, мигрантские диаспоры или же инвалиды, сексуальные меньшинства и даже коммунисты [Cashmore, 1996; Eriksen, 1999; Fenton, 2010; Jenkins, 2008; Reminick, 1989 и др.]. Не случайно, оценивая позднее состояние дел в рассматриваемой сфере, Р. Коллинз пришел к выводу: «Аналитическое осмысление этничности составляет одно из слабых мест социальных наук… в [проводившихся] исследованиях самоочевидным казался вопрос о том, почему же существуют этнические группы» [Коллинз, 2005, с. 19–20]. Среди попыток ряда современных авторов предложить более «глубокую» концепцию этничности можно отметить работу Г. Хейла. Он постарался уйти от прежних аргументов поведенческой мотивации в рассматриваемой сфере. Выход из сложившегося тупика, как полагает автор, заключается в том, чтобы вернуть теорию этничности и идентичности на ее прежнее основание, предполагающее активное использование данных исследования психологии человека [Hale, 2008, р. 2]. Поэтому его разработки велись в рамках теории микроуровня, предполагающей «сверхмягкую» трактовку базовых концептов идентичности и этничности, т.е. их представление как явлений сознания. «Психологизация» проблемы этничности и этнической политики Хейлом стала возможной благодаря использованию ряда экономических положений либерализма, и прежде всего – о значимости сознания для максимизации человеком своей выгоды [Hale, 2008, р. 33]. При этом исследователь абсолютно уверен в том, что «такие явления, как собственно этнический интерес или этническое предпочтение, не существуют. На самом деле мы должны исходить из убеждения, что поведение этнических общностей определяется теми же основными мотивами, которые направляют поведение человека в различных обстоятельствах. Один из таких мотивов включает желание материальной выгоды и экономического процветания» [Hale, 2008, р. 52]. К сожалению, подобную попытку представления этничности как своеобразного «бизнес-проекта» трудно признать удачной. Фактически развиваемый Г. Хейлом подход является еще одной попыткой, наряду с мультикульутрализмом, идентичностью и др., уйти от собственно этнического феномена, на этот раз, в психологические дебри. Не менее примечательны и регулярные попытки «приручить» этничность путем ее элиминации в этническую или национальную идентичность [Guibernau, 2008 и др.]. Почему все это делается, наглядно объяснила М. Ривз: «…“этничность” в качестве аналитического инструмента уже изрядно выработала свой ресурс – она больше скрывает, нежели обнаруживает» [Ривз, 2008, с. 25].
Следует учитывать, что ограничения и сложности, возникающие в случае признания значимости фактора этничности, появляются еще и потому, что это признание естественным образом повлечет за собой необходимость формирования особой этнической политики. Как полагал Мартин, подобная новая сфера политической жизни «означает не только принятие неких мер в отношении членов конкретной этнической группы, но в первую очередь государственную поддержку национальных территорий, языков, элит и идентичностей этих этнических групп» [Мартин, 2002, с. 80]. При таком подходе и влиятельный мультикультурализм может быть представлен как набор требований этнокультурных групп к государству или же в качестве ответа этнокультурных групп на требования, которые предъявляет к ним государство в стремлении продвинуть процесс интеграции [Kymlicka, 2004, р. 25]. Произошедшая политизация этнической проблематики оказывала и оказывает существенное влияние на сугубо академические попытки постигнуть данное явление. Но не стоит полагать, что подобное отношение к этнической проблематике является лишь результатом чьей-то «злой воли», приведшей к внедрению неких двойных стандартов. Причины здесь более глубокие, и для понимания проблемы этнического необходимо обратиться к аргументации позиций как его противников, так и сторонников.





